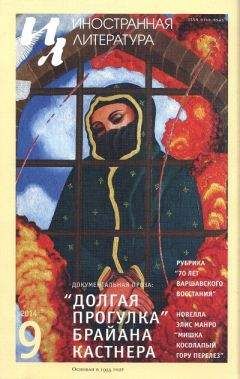– Дяденька, я пока девка – не баба.
Крючник стоял, как монумент, глядел. Потом длинно сплюнул, отвернулся и стал глядеть на улицу.
Прибежали. Их встретили аплодисментами,
– Ну, окно-то кто будет расхлебывать?
Порешили в складчину. Потом расселись по табуреткам и лавкам и принялись за учебу.
Где бы и как бы не собрались, только и слышалось:
– Манька, где ты?
– Манька, начинай!
– Манька, запевай!
Голос у нее был веселый и радостный, далеко слышный и в разговоре и в песне.
Без нее ни дело, ни веселье не спорились. Любили ее.
И она часу не могла прожить без этой шумной, неуемной комсомольской ватаги.
Не у одного комсомольца ныло сердце.
– Манька, будет тебе мещаниться. Ломаешься, как коза на веревке. Не видишь, что ль, сохну по тебе. Ну?!
Та ласково берет его за голову:
– Цыплок мой золотенький, да какой же ты славненький…
– Ну, будет, будет, – а сам норовит ее обнять.
– Постой, ты только мне ответь, а там по-твоему будет. Ты…
– Чего такое?
– Ты ответь. Какая разница – постоянный капитал и переменный капитал?
– Еще чего! Экзаменовать вздумала…
– Да нет же, ты только ответь, а там…
У комсомольца от натуги наливаются щеки, шея, уши.
– Да это что же… тут большого фокуса нету. Постоян… постоянный – это ежели у капиталиста капитал в банке или там в кассе, не тратится, значит, постоянный. А ежели тратится, ну там на производство или там еще на чего, то переменный…
Никогда комната не звенела таким нестерпимо подмывающим девичьим смехом: бес рассыпался.
Манька сделала по раскрасневшейся роже вселенскую смазь. Во-вторых, вцепилась в волосья и стала нещадно таскать.
– Будет… брось… Черт!.. Сатана!..
Он мотал, выворачивая головой, стараясь высвободиться.
– Посохни, посохни еще, миленький, да каши книжной поешь. Тогда разговаривать будем.
В районе ею дорожили: ценная работница. Фабричные, особенно работницы, души в ней не чаяли. А когда посылали в деревню, крестьянки встречали, как родную.
Все заполнено тужурками, кожанками, блузами, гимнастерками, потрепанными френчами. И цветут маки. И цветут глаза. Комсомольская поросль густо поросла по всему залу. Такой же молодой бунт голосов мечется над головами.
Среди всех, красно озаряя, цвели щеки Маньки Луновой. Звенела непотухающая улыбка. Летели к ней голоса, вскрики, смех.
– Манька, глянь сюда!
– Эй, Манька!
По смеющемуся румянцу выбивались из-под повязки непокорные русые стриженые волосы. Она встряхивала ими.
Было беспричинно весело, радостно, и хотелось через все эти молодые головы в черных фуражках, красных повязках, – через все головы крикнуть туда, к самым крайним, к самой стене:
– Эй вы, товарищи, что у вас там?
И она крикнула, слегка приподнявшись и помахав рукой:
– Ванька Лупоглазый, ты чего же книжку мою зажилил?
А оттуда донеслось так же беспричинно радостно сквозь взбаламученное море голосов:
– Не прочи-тал еще…
– Принеси вечером.
От стены протянулся задорный кукиш. И оба, через множество голов, засмеялись друг другу.
А на красном возвышении, на эстраде, – там свое, своя стройка. Колокольчик тоненько и отчаянно мотается среди невообразимой свалки голосов. Да разве его тонко звенящему язычку затоптать их, буйных, разметавшихся? Но тоненько звенящий голосок настойчив и знает свою силу. Он, крохотный, постепенно овладевает этой непокорной ордой буйных молодых голосов, загоняет их по углам, они низом ползут, смиряясь. Наконец свернулись и затихли.
Тогда державший колокольчик сказал бодрым комсомольским голосом:
– Товарищи! Объявляю общее собрание комсомола района открытым. Надо избрать президиум.
Избрали. Уселись.
– Слово – секретарю райкома.
Тот поднялся, порылся в бумагах, посмотрел на комсомольскую братию.
На него тоже смотрели, другие рылись в своих портфелях, а то потихоньку разговаривали, нагнув головы; иные лускали семечки, втихомолку выплевывая шелуху в кулак, хитро подсовывали ее друг другу в карманы. Как будто всем этим хотели сказать секретарю:
«Да знаем, все знаем, и чего говорил и чего будешь говорить».
А он сказал:
– Товарищи!
А они весело, семечками:
– Ну так что ж!..
Тогда над ними над всеми охнуло, взорвало человечьим голосом, и все головы повернулись и все глаза остановились на нем, потому что он сказал:
– Товарищи, среди вас – предатель!
Поплыло молчание, погашая малейшие движения.
Все остановилось, стало страшно прозрачно, и сквозь прозрачность отчетливо видно: сотни глаз смотрели, не мигая.
Как траурный звон, опять повторил:
– Среди вас – предатель.
И протянул руку.
Никто не шевельнулся. Только видно было: сотни глаз неотрывно смотрели на него.
Тогда он злобно сказал:
– Марья Лунова!..
Как хлынувший прибой, все повернулись и увидели: сидит, слегка подавшись полной грудью, Маня Лунова, и мгновенно поблекшие щеки по-прежнему ярко цветут, и искрами блистающие глаза неотрывно смотрят перед собой.
Мгновенно сомкнулся холодный круг отчужденности.
Все сжались, чуть сдвинулись. Она сидела, подавшись грудью, и ярко цвели потускневшие было щеки, и вглядывались во что-то блестящие глаза, и назойливо кричала красная повязка.
Резко строгий голос из дальнего угла:
– Доказательства!
Как треснувшее во все стороны стекло, полопалось оцепенение.
Зашевелились, задвигались, повернулись головы, и глянули на нее сотни прежних, любящих, близких глаз. А она сидела неподвижно, глядя перед собой, и секретарь засмеялся, и душно давивший всех потолок приподнялся, – все стали дышать. По залу поплыл шум, говор, движение.
Чахоточное лицо секретаря исказилось. Колокольчик метался, тоненько всверливаясь в раскосматившийся шум и голоса, и председатель поднялся, отчаянно мотая им:
– Тише, товарищи!
Чахоточное секретарское лицо повело злобной судорогой. Поднял бумагу:
– Вот!
И этой бумагой разом придавил шум:
– …Вот протокол группы анархистов-индивидуалистов. Она – член группы анархистов, самый деятельный член. Она тут среди нас, среди партийцев, среди комсомольцев… мы любим ее… отличная работница… Вы понимаете, тут среди товарищей, а потом побежит к анархистам… Что же это такое?.. Ведь это же развал… Член партии, член комсомола и… продает всех…
Он захлебнулся и оглядел всех гневными косящими глазами. Опять перекосило изжелта-белое лицо, хлопнул ладонью по бумаге:
– Ее собственная рука вела протокол заседания.
Тогда взрыв повалил его голос, голос председателя, и без перерыва тонко извивавшийся голосок колокольчика.
– Долой!
– Вон!
– Пошла вон отсюда!
– Шкура продажная!
– Уходи же, сволочь!.. А то…
В нее летели вспененные злобой, презрением, отчаянием слова. Мотались кулаки. Лица у всех были пьяные, красные, распаренные.
Комсомолец от стены пустил книгой, и она пролетела над головами, торопливо перелистываясь, и упала у ее ног. Молоденькая комсомолка, еще девочка, уронив голову в колени, горько плакала.
– Манька! Манька! Чего ты наделала!..
Загремели стулья, опрокидываясь; кругом столпились, как будто не было председателя, президиума, порядка дня… И стоял рев, и мотался лес кулаков.
– Во-о-он!
Тогда Лунова поднялась и пошла к двери, не глядя, и на помертвелых щеках тлели красные пятна.
…Исключили из комсомола, из партии.
Все – как было. Из-за фабричных труб каждый день всплывало солнце, и гудели корпуса, и бежали комсомольцы – кои на учебу, кои к станкам, кои на партработу. А Маньки Луновой не было.
По вечерам, на собраниях или на демонстрациях пели комсомольские песни или революционные марши, – а голоса Маньки Луновой не слышно было.
Часто вспоминали ее, и удивлялись, и ругали, и жалели, как же это она так, – а ее не было. Никто не видел, никто не слыхал.
И бежали дни и месяцы и делали свое дело. Забвение тихонько стало затягивать, и когда обернулся год, заволокло память о ней: перестали вспоминать, перестали говорить…
…Идет черный, как арап, комсомолец, плечистый, с неправильным, приятным лицом. Шагает – портфель в руках, задумался, глядит под ноги, дорожки не видит, а видит свою работу: на фабрику перекинули.
Навстречу девушка. На щеках дотлевают пятна. Остановилась.
Тихи деревья.
– Алеша!
Остановился, глянул, нахмурился.
– Вам что угодно?
– Постой… давай сядем… ведь год…
– Не о чем нам.
– Но… подожди… что ж боишься, не укушу… не испортишься… вот тут… на лавочке.
Нехотя сел, не глядя.
Она – поодаль, обернувшись к нему. Сквозь ветви дробилось солнце.