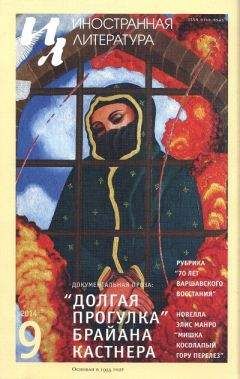Помощник присяжного поверенного
Иосиф Моисеевич
Розельман
прием от 4–8 вечера.
Большая еврейская семья.
Обсядут в столовой в нижнем этаже громадный стол, – а по стенам вниз головами утки из папье-маше, раскрашенные, и во весь пролет стены – тяжелый дубовый ковчег, которому сто лет и в котором на сто человек посуды. Обсядут стол всей семьей, как будто базар открылся, – смех, говор, перебивают друг друга, зассорятся, вспыхнут, опять смех, опять сыплют торопливой речью друг другу. Все говорят по-русски, только «р» чуть картавится, и волоса – курчавые, больше черные.
Да всех не загонишь сразу за стол – из гостиной тоже несется говор, смех; то запоют, или рояль заговорит, или виолончель грудным человечьим голосом, человечьим грудным глубоким голосом… Отчего ж впивается в сердце, так больно и сладко впивается в сердце этот томительный голос?
А из столовой раздраженно:
– Да идите же, все уже холодное…
И когда наконец все усядутся и стихнет отзвучавшая гостиная, так из конца в конец стола почти не видно друг друга, как будто растянулись и потерялись на другом конце улицы, – ведь двадцать человек семейка, двадцать два! Прислуга, украинка, подает, принимает тарелки; давнишняя, лет тридцать в доме, повязана засаленным платком, и концы назад, старый член семьи, – ворчит:
– Хиба то порядок? За стиль уселы, а воны: га-га-га, та цымбалы, та музыку, а все стыне. Хиба ж це порядок?
Как только дело касается еды, она – хозяин и распорядитель в доме.
Двадцать два человека!
Во-первых, две бабушки, тусклые, слезящиеся, равнодушно глядят перед собой, и на пергаментных лицах запечатлено: «Мы все сделали, о Иегова, – вот поколение!..»
Когда изредка их пергаментные губы прошуршат, молодежь их не понимает: по-древнееврейски.
Хозяйка – в черной наколке, и ленты подрагивают; и на лице печать: принесла восемнадцать, выходила одиннадцать, и берегла, и бережет, и будет беречь, как наседка.
Черные ленты гордо подрагивают: у каждого – талант, Либо отлично учится в гимназии, либо отлично кончил университет, либо отлично торгует лесом, и каждый либо поет, либо на рояле, либо скрипка, виолончель, – большой деревянный дом – как старый огромный музыкальный ящик. Прохожие уж привыкли: проходят мимо по улице, задерживая немного шаг, – сквозь окна несутся музыкальные голоса.
А возле хозяйки, на стуле, болтая недостающими ножками – крохотный кудрявый цветочек, самая маленькая. Черненький, лохматенький цветочек. Да какой же живой! Да какой же непоседливый! Верно, оттого светятся две искорки, две тоненькие точечки, смеющиеся и лукавые, светятся из-под темно выгнутых ресниц неизбывной шаловливостью, дразнящим смехом.
Любимица…
Все ее любят, и младший брат, изо всей семьи один – социал-демократ. А отец ему:
– Чем хочешь будь, хоть самим Вельзевулом, только не попадайся. А лучше, если бы занялся вместе с Соломоном.
И Соломон, старший брат, – отлично ведет большое лесное дело, – и он не пройдет мимо, чтоб не потрепать чернокудрявый цветочек.
И сестры, и другие братья, и тетки, и бабушки, и знакомые, и прислуга, и водовоз, который каждый день привозит бочку с водой, – все. И отец, седеющий, благообразное лицо, в котором – мудрость, опыт прожитого. И это всегда спокойное, уравновешенное лицо, – и оно трогается улыбкой, когда возле черненький шаловливый цветочек.
Дом полон музыкального смятения, но никто не обращает внимания на эти не умирающие с утра до глубокой ночи музыкальные голоса, – привыкли.
Но иногда вдруг все остановится в доме, затихнет, все остановятся, где кого ни застанет, приложат палец к губам:
– Тссс!.. тише!
На цыпочках подбираются к гостиной, вытягивают шеи и слушают, заглядывают в гостиную, показывают друг другу с засветившимися лицами.
Видят: черненький цветочек отражается в черном зеркале рояля, и ножонки беспомощно не достают до педалей. А пальчики крохотно ползают по белым смеющимся клавишам, и странно, не по-детски послушно сочетаются глубоко звучащие внутри струнные голоса.
– Да ведь только три года!.. Крошка!
Толпятся все в дверях, и светло в доме от улыбок.
– Дора!..
Ее подхватывают, и смеющийся солнечный черненький зайчик радостно и ревниво перебрасывается с рук на руки.
Этот музыкальный цветок куплен смертью родного человека, близкого, любимого, – куплен смертью дяди. Брат матери – кантор.
Красивое, румяное, чуть излишне полное, чуть апоплексическое лицо; и шея короче, чем нужно, и сам – полный; черные горящие глаза. Иногда задыхается. И бархатный баритон. Бархатный баритон в потрясающе-мрачных древнееврейских напевах, полный мрачной скорби тысячелетних страданий народа, «избранного» народа. С замиранием слушали евреи, слушали богатые евреи в синагоге своего знаменитого кантора. За тысячи верст приезжали и, поворачиваясь друг к другу, говорили:
– Только еврей, только еврей такой голос имеет…
На еврейских концертах он выступал. Стены ломились, в синевато-тусклой густоте меркло электричество, и евреи сидели на спинах друг у друга. А потом дико рушился обвал криков, аплодисментов, грохот сдвигаемых стульев – начинался шабаш восторга.
Нет, он не был целомудренно-правоверным кантором – любил жизнь, красоту, безумно любил власть своего голоса, и его любили женщины.
Он исполнял религиозные обряды для окружающих, для окружающей массы. И когда наматывал на голову ремень с выдававшимся на лбу кубиком заповедей, усмешка играла в сердце. Иегова был далеко за пределами разумности, но он все-таки надевал смешную полосатую хламиду для массы, – ведь он был кантор. Только когда подымался пронзительно- тонкий, как визг, древний хор детских голосов, и его мягкий бархатный голос удивительно вливался в их танцующую ткань, все забывалось – и Иегова, и его история, и канторство. Печаль, печаль и отчаяние, и горе, и тьма тысячелетий неумирающего, неискоренимого народа дрожали, все заслоняя.
От тонкого визга свивающихся детских голосов у слушателей шевелились волосы и ползли мурашки.
За тысячи верст приезжали богатые евреи слушать своего знаменитого кантора.
И вдруг все пошатнулось. Десятки антрепренеров охотились за ним для своих оперных театров. Он подписал контракт, уехал. В дни его выступлений в громадном городе билеты брались с бою, и барышники чудовищно наживались.
Через полгода затосковал, порвал контракт, вернулся. Еврейство богатое от него отвернулось, от него, оскверненного соприкосновением с «гоями» и их нечистой сценой, – не видать ему канторства, как своих ушей.
Он жил все с той же улыбкой жизнерадостности. От мала до велика ломились в зал, когда давал концерт. А червячок точил сердце – крохотный червячок, и сердце иногда задыхалось.
Сестра была беременна последней беременностью – сорок семь лет. И он ждал, ждал и в напряженном ожидании считал дни.
Нет, не потому, что у евреев тысячелетнее поверье: если родится у сестры последний мальчик, старший в роде будет долго-долго жить, то есть он, дядя новорожденного, будет долго-долго жить, будет жить. Если девочка – он… умрет.
Пустяки! Давно откачнулся от предрассудков, от суеверий родного народа, но… если бы… если бы племянник, если бы мальчик!
Дни убегали, точно проносились в вагонное окно полотно, телеграфные столбы, будки, переезды. И однажды тоненько и беспомощно звякало крохотное существо.
Если б мальчик!.. Ему, старшему в роде, дяде… жить тогда…
Акушерка вышла и сказала:
– Поздравляю с племянницей.
Он потемнел и отвернулся к окну. Нет, он не суеверен. Он давно равнодушен к обрядам религии отцов, а тем паче свободен от суеверий, но почему же, почему… племянница, а не племянник?!
– Почему?!
Дни бежали, напоенные заботой, трудом, радостью миновавших огорчений. Жил город, светило солнце, как всегда. Чудесная жизнь, ибо звучала музыкой, ибо пестрела искусством.
Жизнь прекрасна, но… «почему же не мальчик, а племянница?..»
Глядь, а он над обрывом, и сам не знает, как попал. Бестолково сбегают деревья; блестит поворот реки. В медленной задумчивости уходит домой.
Шумный концерт. Чудесно звучит бархатный голос. Взрывом плещущие волны аплодисментов. Светится среди множества лицо любимой, среди множества, но – «почему же, почему?»
Кончился концерт. Надо домой. Глядь, а он над обрывом… Зеленые внизу верхушки; излучина реки блестит… Над обрывом – одинокий, и тоненько, тоненько, как комариное пение, то, о чем не хочет думать.
И как ни сопротивлялся всем своим разумом, всем своим образованием, знанием, его сломило: маленькая крошка пришла в мир, чтобы вытолкнуть его из жизни – двое они не поместятся, он должен уступить. Он?! А голос? А солнце? А зелень сбегающих деревьев? А синие дали? А этот старый дом, где поколения прошли? А лицо любимой, лицо любимой, озаренное среди множества?..