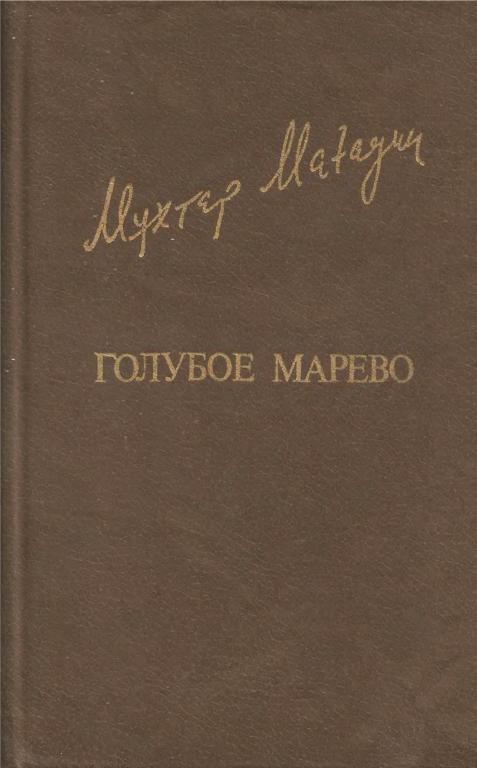к большим, не признанным до времени ученым, Едиге уже давно с любопытством наблюдал за ним. При этом Едиге вспоминалась порядком примелькавшаяся газетная рубрика «Замечательные люди рядом». На свете столько удивительных людей, которые скромны, незаметны, хотя носят в себе великую тайну… Этот старик — один из них. Вот как надо жить. Вот как надо трудиться…
Склонившись над своим столом, Едиге вновь уткнулся в книгу. Однако мысли его разбегались, он пытался сосредоточиться — и не мог. Он посидел-посидел и, ничего не добившись, отправился в вестибюль, чтобы слегка развеяться.

В вестибюле кишмя кишит. Томятся, переминаются с ноги на ногу студенты, жаждущие проникнуть в общий читальный зал. Выходящих оттуда что-то не видно. Однако здесь все надеются… Едиге обратил внимание на нескольких парней с заросшими по самые плечи затылками, в модных галстуках-шнурках. Он заметил этих ребят еще в очереди перед гардеробом. «Всем бы такую выдержку! — подумал Едиге. — До чего терпеливые ребята…» Но были и нетерпеливые. Взгляд Едиге упал на девушку, стоявшую в сторонке, совсем еще молоденькую, лет семнадцати, не больше, тоненькую, с темными карими глазами, ярко выделяющимися на светлой, нежной коже лица. Волосы коротко подстрижены. Под мышкой толстая тетрадь в матерчатом переплете. Кажется, она собралась уже уйти, но слабая надежда против воли продолжает ее удерживать. Брови нахмурены, губа нижняя обиженно закушена. Ну, точь-в-точь ребенок, которому не дают конфетку… Едиге с трудом подавил улыбку.
В зал возвращаться не хотелось. Нерешительно помедлив, он подошел к девушке — благо, и места, чтобы постоять, нигде больше не было, — прислонился к перилам. Девушка сделала движение, чтобы отойти.
— Кажется, вчера в общежитии были танцы? — осведомился Едиге. Вначале он кашлянул и тем самым остановил девушку, а потом уже заговорил — не спеша, солидно, с достоинством.
— Да, — робко кивнула девушка. Ее щеки, покрытые светлым пушком, смущенно порозовели.
— И что же?.. — Едиге вошел во вкус, чувствуя себя суровым учителем, застигшим своего ученика на позднем сеансе. — Заставили бедняжку-мальчика, по имени Робертино, по фамилии Лоретти, до хрипоты петь то «Вернись в Сорренто», то «Папагелло», и так до часу ночи. — Едиге вскинул правую руку и вытянул вверх указательный палец. — До часу ночи, а точнее до двух часов утра кружились и топали. Сами не занимались и мешали другим. Если так пойдет и дальше, вам и первый семестр не одолеть.
Девушка растерянно молчала, покраснев до самых мочек и опустив глаза. Едиге понял, что переиграл.
— Не бойся, айналайын, я пошутил, — рассмеялся он. — Я ведь не преподаватель, а такой же, в сущности, учащийся. Просто советую, как старший. Иногда обидно за ребят: едут издалека, проходят по конкурсу, а там года не прошло как смотришь — возвращаются по своим аулам.
Медленно приподняв длинные, круто изогнутые ресницы, она недоверчиво, в упор посмотрела на Едиге. Какие ясные, чистые глаза… Темные, почти черные, и брови тоже черные, соединить их над переносьем — получится классический кочевничий лук… А волосы так и отливают смоляным блеском… Ну-ну, — остерег себя Едиге, чувствуя, что его заносит, — волосы как волосы, и девушка как девушка… Он уловил что-то трудно определимое в ее лице, на котором постепенно таял густой румянец — что-то не вполне восточное, присущее скорее европейским народам. Наверное, метиска, — подумал он.
— Странно, что ты говоришь по-казахски, — сказал он, проверяя свою догадку.
— А что тут странного? — По голосу, да и выражению лица было видно, что она уже овладела собой.
— Мама у тебя русская?
— Моя мама — полька. Хотя польского языка не знает.
— Неужели?.. Вот не думал, что поляки могут забыть родной язык… Предки твоей матери жили тоже среди казахов?
— Да.
— И ты, айналайын, уже, конечно, соскучилась по дому?
— Еще бы…
— Ты сердишься, что я так тебя напугал?
Девушка окинула Едиге с ног до головы быстрым взглядом и промолчала.
— Завтра, наверное, у тебя семинар?
Девушка кивнула.
— Ну, тогда тем более я должен искупить вину. Пойдем со мной, будешь заниматься в нашем зале.
— Ой, что вы, нам не разрешают! Оттуда какого-то студента только что прогнали…
— Ничего, сядешь на мое место, никто тебя не тронет. Стыдно быть такой трусихой.
Оттого ли, что она вконец отчаялась попасть в общий зал, оттого ли, что Едиге задел ее гордость, назвав трусихой, — девушка последовала за ним. Однако в зале для научных работников ее взяла оторопь. Она остановилась, широко раскрыв изумленные глаза и озираясь по сторонам с таким видом, словно все эти сидящие поодаль друг от друга, за отдельными столами, блистающие лысинами старики-аксакалы, и пожилые, но все еще считающие себя молодыми карасакалы, перевалившие уже середину пути, уже с поредевшими, но еще не выпавшими напрочь волосами, и бодряки-аспиранты, уже не юнцы, но и не достигшие зрелости, еще не расквасившие свои заносчивые носы о суровый гранит науки, еще с пышными шевелюрами, без единого серебряного волоска в новомодных бородках, — словно все эти люди, похожие сейчас на безмолвных, застывших истуканов, представились ей высеченными из белого и черного мрамора, отлитыми из сизовато-серой стали величественными ликами богов какого-то неведомого, таинственного культа; она собиралась было в испуге улизнуть отсюда, но Едиге взял ее за руку, как малого ребенка, подвел к своему столу и усадил.
— Ну, вот, готовься теперь к семинару, — произнес он шепотом, собирая свои бумаги, чтобы перебраться за пустой стол. — Но смотри, закончишь — проверю, и как бы тогда не пришлось поставить тебя в угол.
Едиге немного посидел, рассеянно разглядывая иллюстрации в сложенных кипой и внушающих почтение хотя бы одними размерами трудах по истории, этнографии, литературе, — эти были изданы в последние годы в Москве и Алма-Ате, на плотной хрустящей бумаге, другие, пожелтевшие от времени, напечатанные арабским шрифтом, появились еще до революции в Санкт-Петербурге, Казани и Ташкенте, третьи, красиво оформленные, с золотым тиснением, тома Бартольда и Аткинсона, вышли на английском и немецком в Лондоне и Лейпциге. Не задержавшись ни на одной из книг, он выбрал наконец небольшой, оплетенный кожей, томик «Истории» Карамзина в первом издании. Человек высокого ума и пылкого сердца, — благодарно думал Едиге, — как он умел, не возвеличивая неумеренно одних, не унижать безосновательно других!.. Он стремился передать на бумаге события именно так, как случались они в действительности, ничего не прибавляя и не убавляя. Обилием фактов и наивной свежестью иных суждений старый историк притягивал Едиге. Его недостатки, ошибки, общая его концепция — все это впоследствии было надлежащим образом раскритиковано и объяснено историками, свободными от свойственных Карамзину пороков, но зачастую и не обладающими его достоинствами. Где этот мощный, как медные раскаты, язык,