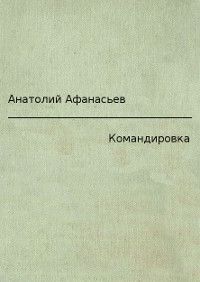Меня немного смущало, что от нее попахивает винцом. Впрочем, какое это имело значение. «Может быть, завтра куда–нибудь сходим вместе?» — предложил я. «А у тебя деньги есть? Ты кем работаешь?» — спросила она. «Никем пока. Приглядываюсь». «А-а!» — сказала она. По дорожкам ходил сторож в сопровождении милиционера и гнусаво выкрикивал: «Парк закрывается. Попрошу!» Я повел подружку к выходу, бережно обнимая за плечи… Возле бильярдной стояла группа офицеров, человека четыре, молоденькие. Кто–то из них окликнул мою даму по имени, она выпорхнула из моих рук и через мгновение уже оказалась окруженной смеющимися мужчинами. И сама громко смеялась. Я ждал. От группы отделился офицер и подошел ко мне. «Закуришь, приятель?» Я взял сигарету из протянутой пачки, прикурил. Офицер был не намного старше меня, младший лейтенант, темноликий, белозубый. «Возьми еще на дорожку!» «Спасибо!» — сказал я. Она не оглядывалась, хохотала, кто–то уже обнимал ее по–хозяйски за талию. Я побрел прочь.
Мое настроение ничуть не ухудшилось. Я понимал, что не гожусь для нее. Голова кружилась от радости.
На попадающиеся навстречу парочки я смотрел сочувственно. Жажда жизни, жажда полета расширила легкие. Я брел через ночную веселую Москву, как через собственную прихожую. К женщине, оставленной у бильярдной и так громко смеявшейся, я испытывал глубокую благодарность. За что? Не знаю. Ко всем женщинам — молодым и старым, красивым и уродкам — я испытывал нежную благодарность в тот ночной час. С тех пор минуло много лет, но отношение мое к ним почти не изменилось… Только я научился прятать его глубоко в себе, понимая, что так–то оно лучше…
Кабина, в которой мы с Леночкой сидели, доползла до верха «чертова колеса» и медленно поехала вниз. Леночка давно спрятала лицо у меня на груди, вцепилась ручонками, ноготками в мою руку и только изредка высверкивала одним, полным отчаяния, глазом.
— Я не дышу от страха! — сообщила она.
— Ну и напрасно. Лучше погляди, какой отсюда прекрасный открывается вид. Мы даже можем разглядеть твой дом, если хочешь.
— Дядя Витя, мы не упадем?
— Что ты, малыш, что ты!
Свободной рукой я гладил ее худенькие лопатки.
Она вздрагивала и прижималась ко мне все теснее — маленький теплый комочек. Как же это я не сообразил, что колесо слишком высоко для нее. Вдобавок тут дул пронизывающий ветер.
— Мы уже спускаемся, Леночек!
По мере приближения к земле дрожь ее улеглась, тельце расслабилось, и вот я наконец увидел оба глаза, заблестевшие прозрачным лукавством.
— А я вовсе и не очень боялась, — сказала она.
— Я сам испугался. Еще бы! Такая высь.
— Правда?
— Лена, ты просто отчаянный ребенок. Я тобой восхищаюсь!
Она совсем успокоилась, возгордилась собой, чуть покраснела, шепнула:
— Если хочешь, можем еще разок прокатиться!
— Ну уж нет. Хватит. Одна — пожалуйста!
Леночка с облегчением выпустила воздух:
— Не-е, одной неинтересно…
В ресторане за ужином мы разговорились. Леночка рассказала кое–какие случаи из своей жизни. Ей нравилось, что она очутилась в сугубо взрослом обществе, и к концу нашего скромного ужина (люля–кебаб, пиво для меня, лимонад для Леночки, два пирожных с кремом) начала подражать сидящим за соседним столиком девицам: перекинула ногу на ногу и жеманно закатывала глаза к потолку. Мне даже показалось, она с вожделением смотрит на мои сигареты.
— Я думаю, Вовка в меня влюбился, что ли, — говорила она. — Все время на меня смотрит и смотрит. Я сказала: «Чего ты на меня смотришь?» А он сказал: «Куда хочу — туда смотрю». И ходит за мной целый день, и ходит. После мы кушали, он в меня кинул печеньем. Прямо в щеку попал. Такой дурак. Я сказала Тамаре Яковлевне: «Вовка кидается». А он сказал: «Я хотел ей печенье свое отдать». Нужно мне его печенье, да? По–моему, он просто глупый. Как ты думаешь, дядя Витя?
У меня как раз было такое состояние, что я ни о чем не думал. Я забыл о времени, о Наталье, о неоконченной командировке — обо всем. И это благодаря ей, маленькой щебетунье с голубым бантом. Она была тем самым существом ли, посланцем небес? — но тем самым, что сладостно поглощает внимание без остатка.
— Видишь ли, — сказал я, — в твоих отношениях с Вовой трудно разобраться со стороны. И все–таки, мне кажется, тебе рановато рассуждать о любви.
— Почему?
— Ну, как тебе сказать. Любовь требует больших сил, а у тебя их мало.
Леночка недоверчиво пискнула.
— Каких сил? Ты что, дядя Витя?
Я сделал глубокомысленный жест: почесал в затылке.
— Я, правда, помню, тоже в четвертом классе привязался к одной девочке. Она мне нравилась. Но это не любовь, это была дружба. Честно сказать, я вообще удивляюсь, как это мы с тобой заговорили о таком предмете. В нем и взрослые–то мало смыслят… Давай лучше поговорим о чем–нибудь другом. Ты смотрела фильм «Карлсон, который живет на крыше»?
— Да.
— Он тебе нравится?
— Нравится, нравится… А почему вон те тетеньки курят? Разве им можно?
— Курить вредно, — сказал я с натужной уверенностью, — и мужчинам и женщинам.
— Мишка сказал, он уже два раза курил.
Это который тебе голову откручивал?
— Он ведь плохой, да?
Не знаю… Пойдем домой, Лена, уже восемь часов. Мама волнуется…
Из первого попавшегося автомата я позвонил Наталье: никто не ответил. Тяжелое предчувствие морозцем обожгло лопатки. То, что я сделал сегодня, и то, что делал все последние дни, представилось вдруг гигантской нелепостью, которая неминуемо повлечет за собой другие нелепости. Я испугался и вобрал голову в плечи. Среди сплошных несуразностей, скаливших акульи морды, было одно живое пятно — девочка, которая вела меня за руку. Она одна не была порождением бреда, и если за нее держаться, если за нее крепче держаться, то, наверное, еще можно уцелеть.
«Это нервы! — подумал я. — Погляди, сколько вокруг красивых, смеющихся лиц. Погляди. Возьми себя в руки. Не раскисай! Это нервы!»
Я подумал, что когда–то и я ходил, сунув свою ладошку в большую сильную руку, и как хорошо, что тот, кто держал мою маленькую спичечную ручонку, не был похож на меня…
— Леночка, ну куда ты меня тянешь, совсем не в ту сторону! Пойдем быстрее. Ты устала? Давай я тебя понесу.
— Хочу на качели.
— Какие качели? Мы были уже на качелях. Мама ждет, волнуется.
Девочка упрямо, изогнувшись в скобку, изо всех сил стаскивала меня с разумного пути.
— Вон, дядя Витя, вон! Смотри, какие качели. Ну пожалуйста! Разочек покатаемся, и все. Ну пожалуйста!
— Надо же билет купить.
— Купи.
Я купил билеты, мы сели в лодку, которая стала немыслимо взлетать под перекладину. Черт ее раскачивал, а не я. Леночка визжала от восторга. Глазенки ее — два фонарика–то снизу, то сверху посылали лучи. Детский крик висел над всем парком, как вой сирены. Я попытался улыбнуться в ответ Леночкиной радости, но губы не разомкнулись. Вверх — вниз!
Парк — сплошь движущиеся тени. Тени на огромной с, тене асфальта, утыканного гвоздями деревьев.
Вверх — вниз! Наваждение. Бесовские штучки. Запомнишь, Наташенька, как ты меня не любила!
— Хватит! — крикнул я. — Хватит, малыш! Давай остановимся!
— Еще, дядя Витя! Еще!
Пожалуйста. Вверх — вниз! Трава не расти. Вверх — вниз! Сколько еще так можно? Ах, чудесно! Ах, превосходно! Вверх — вниз!
— Ты какая–то неугомонная, — сказал я, когда мы подходили к метро. — Беззаботная какая–то. Совсем не думаешь, как там мама. А вдруг она плачет от горя и считает, что мы с тобой погибли.
— Да? — спросила Лена озабоченно.
— Еще бы.
— Давай тогда позвоним.
Мы зашли в будку. Набрав номер, я поднял Лену на руки и сунул ей трубку.
— Мама, мама! Это ты?.. Мы с дядей Витей качались на качелях… — Я безразлично следил за инвалидом у табачного киоска. Он уронил себе под ноги пачку сигарет и бумажник и пытался поднять. У него была одна рука.
Я бы помог, но если опустить Леночку на пол, не хватит, пожалуй, провода. «Ой, мама!.. Мы же едем. Ну, ничего не случилось… Ладно, ладно», — Лена отвечала матери уже со сморщенным, напряженным лицом, а Натальин голос доносился до меня паром кипящей струи. Слов я не разбирал.
— Дядя Витя, мама хочет с тобой поговорить…
Я принял у нее трубку.
— Алло, Наташа! Привет!
Услышал я не слова, а какой–то приглушенный змеиный шип, из него все же уразумел, что вскорости мне грозит тюремное заключение.
— Хорошо, хорошо… — буркнул я и, не дослушав, повесил трубку.
Инвалид все еще подбирал с асфальта свои вещи. Два высокорослых прыщавых юнца торчали неподалеку, наблюдали и перегибались от хохота. У одного волосы до латунного блеска выкрашены хной. Я велел Леночке стоять на месте, подошел к однорукому и распихал сигареты и бумажник ему по карманам.
— Эх старина, — сказал я. — Что же ты так?
Мужчина обиженно моргал красными веками. Проходя мимо юнцов, я, будто невзначай, задел одного локтем.
— Поосторожней, папаша!