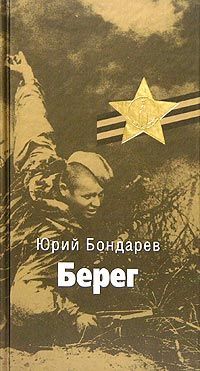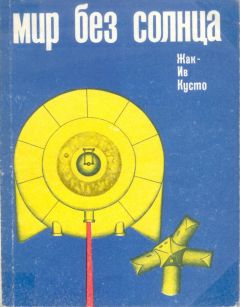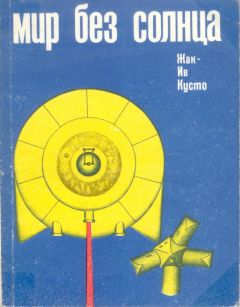Она, не выпуская его руки, проворно села на постели, откинув волосы, склонила голову, излишне серьезно изучила его ладонь, потом провела ноготком две скрещенные кривые линии, неуверенно сказала:
— Madchen Emma und ein junger Leutnant. Krieg… Schmetterling und das Madchen Emma[53].
— Это, может, и, правильно, — сказал Никитин. — Только ты, конечно, не права насчет этой Schmetterling. — Он, удивленный, повел головой на потолок, где желтым бликом прилепилась бабочка, и тотчас замолчал: в запасе не было ни одного нужного немецкого слова.
Это сравнение с бабочкой было, разумеется, чересчур сентиментальным, несерьезным, чересчур легковесным для него, четырежды награжденного боевыми орденами офицера, воевавшего три года, видевшего многое, что можно увидеть на войне, наученного принимать решения и отдавать приказы солдатам, подчиненным ему. Он считал себя вполне самостоятельным, опытным человеком, бывал порой самолюбив, вспыльчив и строг соответственно обстоятельствам, однако ни за что не признался бы никому, что вся его офицерская привычная жизнь была неестественной и вынужденной, а вся еще непрожитая жизнь — оборванное прошлое, летнее, солнечное, подробно неизвестное другим, о чем он иногда говорил одному только Княжко, — оставалась где-то радостным светом позади, в заросших старыми липами переулках лучшей в мире улицы Ордынки, в той особенно прекрасной, едва начавшейся жизни, будущее которой представлялось прерванным продолжением счастливых школьных лет. Но эта жалость Эммы, когда она поцеловала ему руку, и этот вроде бы намек на возраст («юнгер лейтнант») задели его, как напоминание о вероятной неопытности: «Она видела меня беспомощным, когда раздевала и укладывала в постель?»
— Насчет бабочки, Эмма, какая-то ерунда, — заговорил Никитин пасмурно, тщетно силясь найти немецкие слова. — Не в этом дело. А, черт, язык! Ну, как же тебе объяснить?
Он хотел сказать, что его невозможно так воздушно сравнивать с бабочкой, потому что он советский офицер и не боится ни бога, ни черта, ни немецких танков, ни осуждения солдат за то, что с ним случилось вчера, что он отвечает за поступки (в этом даже был подчеркнутый вызов), но в долгих муках поисков нашел лишь несколько ученических слов:
— Ich bin zwanzig Jahre alt[54]. («Глупость и ерунду порю! К чему это я сказал о своем возрасте? — подумал он, недовольный неуклюжим ответом. — Совсем не то говорю, сплошную говорю ересь…»)
— O, zwanzig! — Она просияла, обрадовалась и сейчас же для убедительности приложила щепотку пальцев к своей груди, сообщила о себе в третьем лице: — Emma achtzehn… Ein, zwei, drei… und so weiter![55]
«Семнадцать или восемнадцать?» — сосчитал в уме Никитин, нечетко помня счет от десяти, а она, улыбаясь влажными зеркальцами зубов, перегнулась к краю постели, взяла его ручные часы, положенные им в изголовье на стуле, отметила на циферблате ноготком три деления за цифрой пятнадцать, педантично отсчитала, точно ученику на уроке математики в школе:
— Also, funfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. — И, придавливаясь виском к его виску, воскликнула со смехом притворного испуга: — O, mein Gott, ich bin so alt! Eine richtige Großmutter! Verstehst du mich?[56]
«Без десяти восемь! — тревогой бросилось в глаза Никитину. — Через десять минут подъем. Неужели сейчас постучат?»
Он, не выдав беспокойства, прислушался к невнятным звукам внизу и начал застегивать на запястье ремешок часов, думая, как сказать ей, что нельзя оставаться больше, пора уходить, сейчас уходить, но его беглый взгляд в сторону двери, его скрываемая напряженность сразу же чутко передалась ей, отразилась страхом на веснушчатом лице, будто непредвиденное что-то вошло, незаметно прокралось в комнату тенью затаенной угрозы обоим.
— Was ist los? Soldaten?.. Was?[57]
— Эмма, — сказал он, затрудненно подбирая в памяти немецкие слова, испытывая новой шершавой болью ноющую вину перед ней. — Эмма… Тебе надо идти. Komm zurück. То есть мне… то есть нам пора. Сейчас подъем батареи. Komm, Emma… Auf Wiedersehen… Я не хочу, чтобы тебя увидели здесь.
Она затравленным зверьком озиралась на дверь, на распахнутое окно, где в чистейшей голубизне погожего майского утра пылало солнце над садом, над красными черепичными крышами, потом на миг, в тишине мансарды, тоже прислушалась к завозившимся голосам на первом этаже, заглушенным полом, и с жалобным всхлипом, как к защите, приникла лбом к его плечу, обвила руками его шею, шепча по слогам:
— O, Vadi-im, mein lieber Vadi-im!
— Auf Wiedersehen, Emma. Тебе пора. Уже утро, Эмма…
— Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen…
Она вскочила с постели, торопливо надела халатик на голое тело и, завязывая поясок, клоня голову, смиренной поступью кроткой подчиненной девочки пошла к двери, а он лежал, ослабленный, еще невесомо окутанный теплым, ватным туманом, еще ощущая протяжный шепот ее: «wiedersehen», и млечно-нежный запах ее шеи, горько-мятную конфетную сладость туалетного мыла, исходившую от ее желтых волос, но вновь подспудное, мучительное чувство бессознательно случайного, ничем не оправданного, совершенного им и ею в беспамятной отрешенности от всего, что было вчерашней и сегодняшней действительностью, тоненьким предупредительным колокольчиком тревоги звенело в нем, вызывая томящую, как неизвестность судьбы, опасность перед тем, что он знал и не знал.
Потом внизу грозно всколыхнутой волной прокатилась команда: «Подымайсь, второй взвод!» — и вскоре загалдели непроспанные голоса солдат, а минут через пять на лестнице зашаркали, приближаясь, шаги, послышалось покашливание, шаги замялись за дверью, и проник голос Ушатикова одновременно с несмелым стуком:
— Подъем. Вставайте, товарищ лейтенант.
— Да, я слышу, — ответил Никитин. — Я встал. Сейчас спущусь.
— Комбат ждет вас, товарищ лейтенант. Приказал — к нему. Срочно.
«Гранатуров? Он здесь? — подумал Никитин при этом ворвавшемся из внешнего мира голосе и стуке Ушатикова. — Меня к комбату? Значит, он не уехал в медсанбат и ночевал в доме?»
В гостиной было по-утреннему просторно от солнечного света, и весело сверкала в окна ослепительной зеленью молодая трава на лужайке, как в то первое неожиданно благостное утро пробуждения после Берлина, и все было таким же мирным, весенним, обогретым. Только табачная вонь, кислый запах шнапса, неопрятный стол, заставленный пустыми бутылками, банками консервов, из которых торчали воткнутые в них ложки, окурки самокруток, растоптанные на полу, только эта неприбранность и невыветренный дух солдатских гимнастерок напоминали о том, что было здесь вчера.
Весь опухший до щелочек глаз, свекольно-багровый, вроде бы с виновато поникшими усами наводчик Таткин прибирал посуду на столе, тыкался в разные углы руками, стараясь не звенеть бутылками, складывал их в вещмешок; Ушатиков помогал ему, держал мешок, то и дело оглядываясь на диван недоуменными глазами. Там, в уголке, соединив колени, кругло очерченные юбкой, откинувшись затылком, сидела Галя, курила сигарету; ее взгляд безучастно бродил по потолку, не замечая ни солдат, ни старшего лейтенанта Гранатурова, неподвижной глыбой стоявшего около нее.
Когда вошел Никитин и сказал коротко: «Прибыл», они молчали, Гранатуров лишь хмуро повел бровями, нездоровая серизна проступала сквозь смуглоту его лица, выделялись темные одутловатые круги в подглазьях, старили его. Несколько секунд продолжалось молчание, пока Гранатуров, против обыкновения, ощупывающе, недоверчиво с ног до головы разглядывал Никитина, как бы совершенно незнакомого нового офицера из запасного полка, прибывшего в его батарею для прохождения службы.
— Н-да! — произнес густо Гранатуров и мотнул головой солдатам, которые все возились вокруг стола. — Выйдите, потом уберете!
— При этом положении полы бы вымыть полагается, товарищ старший лейтенант. Ежели по-русски… — втискивая бутылки в вещмешок, сказал Таткин и покосился на Галю. — Чать, не в блиндаже, не в окопе, а тут он в доме со всеми был, лейтенант-то наш. Эхе-хе, земля ему пухом…
— В немецком доме мыть полы? Что-то не понимаю! — зарокотал Гранатуров. — Он погиб как солдат на поле боя. А не в этом доме, в теплой постели! Пришел, Иисус Христос? — обратился он к Никитину. — Садись, правдолюбец. Ты мне оч-чень нужен. И вот Гале нужен. Она нас обоих хотела видеть. Садись. Выясним кое-что необходимое…
— Благодарю. Мне удобней будет стоя, — сухо ответил Никитин, еще внутренне не приготовленный к продолжению вчерашнего разговора, и подумал неприязненно: «Но зачем она? Зачем понадобилось ее присутствие для выяснения наших отношений?»
— А надо бы, товарищ старший лейтенант, — сказал не без убеждения Таткин и, крякнув, взвалил вещмешок на плечи, заковылял к двери. — Сродственникам и женщинам завсегда это полагается делать. А то нехорошо как-то. Не в окопе, а в доме жили.