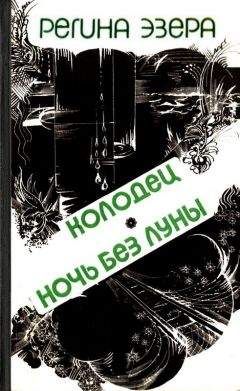Мне хотелось бы оставить после себя хотя бы сыновей, как Анна, но и это несбыточно, потому что поздно. Оба раза, когда наш — Байбин и мой — ребенок заявлял свои права на существование, мы решали «подождать». Подождать — очень удобная, невинная формулировка. Подождать с отъездом, подождать с покупками… Первый раз это случилось, когда мы ютились в мансарде. Мы решили подождать, потому что не было человеческого жилья. А второй раз — у нас уже был собственный дом, но мы опять отложили до лучших времен…
Помню, как Байба мне сообщила об этом за ужином, отщипывая понемножку от бутерброда, будто играючи:
— Знаешь, Том, у меня опять будет ребенок… Но ты же понимаешь, что я не могу себе этого позволить.
Меня рассмешило ее детское «опять», но неприятно задел категорический тон, которым она объявила «я не могу себе этого позволить» (имея в виду свою артистическую карьеру).
— Если ты все сама решила, — отвечал я, — так о чем же нам говорить?
Байба задумчиво повертела хлеб, подняла на меня взгляд, словно хотела что-то сказать, — ее синие глаза смотрели тревожно, испытующе, но, так ничего и не сказав, она снова отвернулась.
Я обязан был тогда откровенно сказать Байбе, что ее жертва никому не нужна — и меньше всего искусству, потому что прима-балериной она никогда не станет (Байбе тогда было уже тридцать лет). Это было бы жестоко? Да, сознавать это для артиста всегда ужасно. Я представил себе, как она станет судорожно рыдать, может быть, начнет и упрекать, — у меня болела голова, и хотелось покоя, я уговорил себя, что надо ее щадить. Мы очень, очень (ха-ха!) щадили друг друга… пока не опротивели друг другу до смерти. И постоянно что-то приносили в жертву идолу Доброго Согласия: комплименты, реверансы, умолчания, ложь по мелочам, подновляя добрую славу своей семьи, как медную ручку парадной двери для обозрения прохожих. О нас говорили как о примерной паре, и мы охотно играли эту обворожительную роль, настолько увлекаясь, что не разгримировывались, даже когда оставались вдвоем. «Удивительное согласие» мы покупали ценой лицемерия, больше всего на свете боясь ссор (и правды!); оправдывали недостатки друг друга (зная, что это — недостатки), поддерживали друг в друге иллюзии (сознавая, что это только иллюзии). Наш брак напоминает танец Байбы при лунном свете на пляже в Гарциемсе — он тоже имел весьма условную связь с реальностью, то была игра, порою виртуозная, но тем не менее только игра…
Сейчас мне трудно сказать, кто из нас был истинный виновник, и какой смысл искать его, теперь уже ничем не помочь, да и не нужно. Я не могу также сказать, началась ли эта игра, когда кончилась любовь, или же любовь кончилась тогда, когда началась игра. Не знаю, поможет ли другим мой горький опыт, мне самому, к сожалению, уже нет…
Когда я узнал, что я болен (вернее, я прежде догадался по беспрестанной головной боли и головокружениям), меня потрясла только возможная ужасающая близость смерти, которая подкралась ко мне внезапно. Постепенно я привык к этой мысли — все мы знаем, что умирать придется, и смирились с тем, что умрем, а «близость» в конце концов понятие относительное. Теперь же больше, чем страх перед будущим, меня мучила неудовлетворенность прошлым и непреходящее гнетущее сознание, что ничего, решительно ничего я уже не успею, не успею, не успею…
— О чем ты думаешь, Том?
Я ощутил прикосновение Анниной руки к своей — ее теплых, живых пальцев и почувствовал ледяной холод своей ладони: руки у нас разные, как и наше будущее. Мне хотелось рассказать ей все, но… я представил себе, что за этим последует — Анна, наверное, станет меня успокаивать, что-де химиотерапия (об этом много писали в печати) делает чудеса, потом приедет в больницу (в зимний мороз раскрасневшаяся, свежая, пахнущая снегом), где я буду лежать, увядший в палатной духоте, с распатланной бородой (и судном под кроватью), и под самый конец, возможно, заберет из склада одежду (и отвезет моим родителям в этой же самой туристской сумке с испорченной молнией)… Пусть эта ночь останется такой, какая она есть: с серой крышей неба, звуком лосиных шагов в хрустальной тишине, чужими судьбами, кометой, пронзающей тьму, и теплым живыми пальцами Анны.
Она отнимает руку, смущенная своим прикосновением и моим молчанием. И мне вдруг становится жаль того неуловимого «чего-то», что связывало нас какое-то мгновение, как тонкая паутина, но все проходит безвозвратно, и этот миг уносит с собой река времени, в которой некогда озорной паренек и девочка с русой косой давно уже скрылись за горизонтом лет.
— Ребя-а… пошли кур-рнем! — предлагает Пиладзит, едва ворочая языком.
Мне действительно хочется курить, и моментально улетучивается благое намерение не делать этого. Вчетвером выходим на улицу. Земля кажется седой, точно от далекого серого света — пошел снег.
— Ребята, у кого есть… огонь?
«Огонь» есть у меня. Чиркаю спичкой и, пряча ее в ладонях, даю прикурить. Световые тени странно преображают лица, каждая морщина и складка прочерчены будто углем. Лицо Теодора… Лицо Язепа… Лицо Пиладзита…
Снежные хлопья в затишье задумчиво падают нам на головы и на плечи, а в лучах лампы нервно вихрятся, пока не проскользнут и не скроются за границей света и тьмы.
Тот вечер танцев был — чудесный сон,
Но вспыхнул луч зари — растаял он…
— Лиесма! — прислушавшись, говорит Язеп.
— Тсс!
Женщины, видно, уговорили девушку спеть, пока нет нас — тех, кого она стеснялась.
Улыбки ждать твоей иль прочь уйти?
А сердце шепчет, шепчет: погоди!
Слова песни кажутся мне несколько сентиментальными, но голос у Лиесмы звучный и чистый, как зов иволги.
То был последний вальс,
Принес он любовь и тебя,
Кружит последний вальс,
На крыльях мечты мы летим…
Сперва я принял это за тающие снежинки, но потом увидал, что ошибся — по худым щекам Волдемара Пиладзита текут слезы.
Когда Лиесма смолкает, из зала неясным бормотанием доносятся только разговоры.
— Ну, почему я такая… свинья, а? — вдруг спрашивает Пиладзит, ни к кому не обращаясь,
— Ничего, мастер, все образуется, — говорит Теодор. — Смотри, какой белый снежок…
Пиладзит крепко затягивается и нервно кашляет.
— Скоро должен быть поезд из Риги, — опять изрекает Теодор, прислушиваясь к ночным шумам, а невдалеке, невидимые в темноте и вихре снежинок, то и дело переговариваются сосны. Первый снег, прямо как чудо, все падает и падает, и серая, иззябшая, уставшая от своей обнаженности земля становится белой. Снег хороший, он покрывает рытвины на дороге, шрамы на деревьях, отчаянную пустоту убранных полей, делая все чистым, сверкающим.
Когда я, запорошенный, возвращаюсь в зал ожидания, Дайна смотрит на меня с радостным изумлением, живо сползает со скамейки, подбегает ко мне, цепляется за руку и, только послушавшись Анну, нехотя, медленно отправляется за пальтишком. Втроем мы выходим наружу, голые плети дикого винограда уже превратились в светлые кружева.
— Как бело…
Кто это сказал? Анна?
Взглянув, вижу, как постепенно покрывается снегом и она: симметричные звездочки падают на темно-русые волосы и на пальто, цепляются за брови, ресницы. Прищурившись, Анна смотрит вверх, и хлопья дорогой света от лампы как бы текут ей навстречу.
— Знаешь, — говорит она мне, — есть такое поверье: надо выбрать одну снежинку и следить за ней. Если упадет на тебя, значит, исполнится. Если не упадет, то нет…
— Что исполнится?
— Желание.
Она опять глядит вверх, на ее выразительном лице — тихое удивление красотою мира.
— Что ты на меня так смотришь, Том?.. Тебе кажется это ребячеством?
— Ты хорошая, Анна. Какая-то очень чистая…
Маленький комочек снега разлетается об мою щеку, звенит прозрачный детский смех. Оглядываюсь: это, конечно, Дайна. Она дразнится, прыгая передо мной, потом кидается бежать, и я большой черной птицей бегу за ней по свежему нетронутому снегу, полы расстегнутого пальто вразлет, но пробежав немного, запыхавшись, останавливаюсь.
Деревья сумрачно шумят, словно вздыхают время от времени. В мягком снежном одеяле тонут конские копыта. На поворотах скрипят оглобли и колеса стучат глухо, чуть слышно, так что подвода прибывает на станцию никем не замеченная, только Барон в зале ожидания навостряет уши, и его рычание похоже на дальние раскаты грома.
— Ну, чего ты! — прикрикивает на него Кристина, и собака успокаивается.
Бернат заворачивает лошадь к коновязи — тпрр! — и выбирается из телеги. Слезает и Скрастынь, — его с Расой нагнал лесотехник и подобрал по дороге.
Раса спрыгивает, едва придерживаясь рукой за край телеги, гибкая, ловкая. И она тоже рада снегу. Надев новенькую короткую нейлоновую шубку, самую лучшую из своих вещей, она все время втайне опасалась, что будет выглядеть в Риге чучелом, ведь сейчас еще только октябрь. Теперь эти опасения отпадают, а что касается остального, стоит ли ломать себе голову, — Раса сама знает, что красива. Конечно, модный каштановый цвет волос, как у нее, можно, говорят, скомбинировать из хны и басмы, но такая белая и прозрачная кожа лица бывает только у рыжих от природы. У Расы стройная спортивная фигура, синие-синие, какие редко встречаются, глаза, ей двадцать лет. Кое-кто в «Биркаве» считает, что Раса могла бы найти мужа получше, чем Альфонс Скрастынь. Да неизвестно еще, сколько в этом искреннего сочувствия и сколько зависти! И что значит вообще — «получше»? Моложе? Конечно. Альфонсу тридцать пять лет. Но разве тридцатипятилетний мужчина — старик? Когда Расе было четырнадцать, она считала стариками всех старше двадцати лет… Конечно, в старших классах у нее было мальчишек хоть пруд пруди. А где сейчас большинство парней? Разлетелись кто куда: один в университете, другой служит в армии. Если бы Раса поступила в медицинский институт, как планировалось, да если бы… Она не прошла по конкурсу, возвратилась, поступила работать в колхоз счетоводом. Как это все надоело, как скучно, а главное — совсем бесперспективно, тут можно только постепенно состариться, засидеться в девках и больше ничего! В Риге с такой внешностью, как у нее, можно рассчитывать на место, по крайней мере, в «Сакте» или в «Детском мире», или даже пойти в Дом моделей — манекенщицей. Чтобы устроиться в Риге, надо где-то прописаться, а чтобы прописаться, нужна справка с места работы. Можно, конечно, на завод. На завод… В общежитие… Восемь, десять железных коек… Наивные картинки на стенах, наивные вязаные салфетки… Нет, это не то!