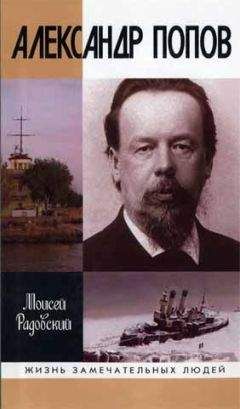Ознакомительная версия.
Колос нес знамя с изумительной легкостью, как будто оно ничего не весило. Золотая верхушка знамени почти не вздрагивала над головой знаменщика, тяжелая, нарядная, украшенная золотом волна алого бархата падала прямо на плечо Колоса.
Знаменная бригада прошла по всему торжественному, застывшему в салюте фронту и замерла на правом фланге. В наступившей тишине Захаров сказал:
– Колонисты Шарий, Кравчук, Новак, – пять шагов вперед!
Вот когда наступил момент возмездия за сверхурочную работу на шишках! Серьезный Виктор Торский вышел вперед с листом бумаги и прочитал, что такому и такому за нарушение дисциплины колонии объявляется выговор. Филька стоял как раз впереди Вани, и Ваня видел, как пламенели его уши. Церемония кончилась, Захаров приказал провинившимся идти на места, Филька стал в строй и устремил глаза куда-то далеко-далеко, вероятно, в те места, где находилась в его воображении справедливость.
Но Захаров уже подал какую-то новую очень сложную команду, и вдруг ударил марш, и что-то произошло с фронтом. В нескольких местах фронт переломился, Ваня опомнился только тогда, когда колонна по восьми в ряд уже маршировала по дороге. Ваня сообразил, что он идет в первом ряду своего взвода. Перед ним одинокий командир Семен Касаткин, а дальше – море золотых тюбетеек и далеко-далеко – золотая верхушка знамени. Касаткин, не изменяя шага, оглянулся и сказал сердито:
– Гальченко, ногу!
Пока дошли до первых домиков Хорошиловки, Ваня совершенно освоился в строю. Он очень легко управлялся с «ногой» и еще легче держал равнение в длинном ряду. Все это было не только легко, но и увлекательно. На тротуарах Хорошиловки собирались люди и любовались колонистами. А когда вышли на главную улицу города, оркестр зазвучал громче и веселее. Колонна проходила между густыми толпами публики, и теперь только Ваня понял, до чего красив строй первомайцев. А потом они вошли в нарядную линию демонстрации, встретили полк Красной Армии и отсалютовали ему, прошли мимо девушек в голубых костюмах, мимо физкультурников с голыми руками, мимо большой колонны разноцветных, оживленных школьников. На колонистов все смотрели с радостью, приветствовали их, улыбались, удивлялись богатому оркестру, а женщинам больше всего нравился шестой взвод, самый молодой и самый серьезный.
Возвратились из города к вечеру, голодные, уставшие, счастливые. И за поздним обедом, и вечером в клубе, и в спальнях долго вспоминали и спорили о подробностях.
Вечером на общее собрание приехал Крейцер. Он редко приезжал в колонию. У него широкое бритое лицо, улыбающиеся глаза и рассыпающаяся на лбу прическа. Крейцера колонисты любили. То, что он председатель облисполкома, имело большое значение, но имело значение и то, что Крейцер ничуть не задавался, разговаривал простым голосом и смеялся всегда охотно, если было действительно смешно. И сегодня он пришел на собрание, когда его никто не ожидал. Колонисты только на одну секунду, пока отдавали салют, посерьезнели, а потом заулыбались, заулыбался и Крейцер:
– У вас весело, товарищи!
– А что ж… Весело!
Он широкими шагами направился к трибуне, но не дошел, хитро прищурился, остановился на той самой середине, которая многим уже причинила столько неприятностей:
– А вы, знаете, что? Я приехал вас похвалить. У вас дела пошли, говорят.
Ему ответили с разных концов «тихого» клуба:
– Дела идут!.. А вы подробно скажите!
– Могу и подробнее. Вас со сметы сняли. Вы знаете, что это значит? Это значит, что вы живете теперь не на казенный счет, а на свой собственный – сами на себя зарабатываете. По-моему, это здорово.
Колонисты ответили аплодисментами.
– Поздравляю вас, поздравляю. Только этого мало!
– Мало!
– Мало! Надо идти дальше! Правда?
– Правда!
– Производство у вас плохое, сараи.
Одинокий голос подтвердил:
– Стадион!
– Вот именно, стадион, – радостно согласился Крейцер и сейчас же нашел глазами Соломона Давидовича, – слышите, слышите, Соломон Давидович?
– Я уже давно слышу.
– Вот… и станки…
– Не станки, а козы!
– Козы! Правильно!
Он уселся между пацанами на ступеньках помоста и вдруг посмотрел на собрание серьезно:
– А знаете что? Давайте мы настоящий завод сделаем. А?
– Как же это? – спросил Торский.
Крейцер надул губы:
– Смотри ты, не понимает, как же! Построим, станки купим!
– А пети-мети?
– А у вас есть пети-мети – триста тысяч! Есть?
– Мало!
– Мало! Нужно… нужно… миллион нужно! Маловато… это верно.
Филька крикнул:
– А вы нам одолжите…
– Вам? Одолжить? Невыгодно, понимаете, вам нужно одолжить семьсот тысяч, а у вас своих только триста! А знаете что? Ребята! Стойте.
Он по-молодому вскочил на ноги:
– Дело есть! Факт! Есть дело! Слушайте! Я вам дам четыреста тысяч, а вы сами заработайте триста. Соломон Давидович, сколько нужно времени, чтобы у вас еще триста тысяч прибавилось?
Соломон Давидович выдвинулся вперед, пошевелил пальцами, пожевал губами:
– С такими колонистами, как у нас, – очень хорошие люди, я вам прямо скажу, – нужно не так много – один год!
– Всего?
– Один год, а может, и меньше.
Крейцер глянул на сдержанно улыбающегося Захарова:
– Алексей Степанович, давайте!
Захаров откровенно зачесал в затылке:
– Давно об этом думаем. Только за год не заработаем: оборудование у нас, нечего скрывать, дохлое, еле держится.
Соломон Давидович, кряхтя, поднялся со стула:
– Оно, разумеется, держится на ладане, как говорится, но, я думаю, как-нибудь протянем.
– Вот я скажу, вот я скажу.
Это вытягивал вперед руку Санчо Зорин.
– Вот я скажу: что мы заработаем триста тысяч за год, это, считайте, как дома. И все ребята скажут так.
– Заработаем, – подтвердили с дивана.
– А если вы нам поможете, – будет новый завод. Только какой завод, вот вопрос. Но это отдельно. А только я предлагаю так: если мы так заработаем, да еще вы нам поможете, так это через год будет, а потом еще строиться целый год, значит, два года пройдет, – жалко. Теперь смотрите, везде пятилетку делают за три года, а то и за два с половиной, а нам чего ж? Правда? А я предлагаю: давайте прямо сейчас начинать, сколько там у нас есть денег, начинать же можно, а чего они будут лежать. А вы тоже… знаете… как бы это сказать…
– Тоже сейчас дать?
– Ну не сейчас… а вообще!
Санчо так умильно посмотрел на Крейцера, что никто не мог уже удержаться от смеха, да и другие смотрели на Крейцера умильно, и он закричал Захарову, показывая пальцем:
– Смотрят, смотрят как! Ах, чтоб вас!.. Есть! Есть, пацаны! Сегодня даю четыреста тысяч!
Захаров вскочил, размахнулся рукой, что-то крикнул. Крейцер принял его рукопожатие с таким же молодым восторгом, кругом кричали, смеялись, все сорвались с дивана. Торский закричал:
– К порядку, товарищи!
Но Крейцер безнадежно махнул рукой:
– Какой там порядок. Завод строим, Витька!
Но Витька и сам понимал, что сегодня можно и не заботиться о слишком образцовом порядке.
Новый завод, о котором пока мало можно было сказать, разумеется, вскружил голову всей колонии. Но удивительно было то, что даже этот подарок не исчерпал богатых карманов судьбы.
Во время обеда в столовую влетел Виктор Торский.
Секретарь совета бригадиров, член бюро комсомольской организации, он обладал очень солидным характером, но тут он вбежал, взлохмаченный, возбужденный, и заорал, воздевая руки:
– Ребята! Такая новость! И сказать не могу!
Он действительно задыхался, и было видно, что говорить ему трудно.
Все вскочили с мест, все поняли: произошло что-то совершенно особенное – сам Витя Торский кричит, себя не помня.
– Что такое? Да говори! Витька!
– Крейцер… подарил нам… полуторку… новую полуторку! Автомобиль!
– Врешь!
– Да уже пришла! Во дворе! И шофер есть!
Витя Торский еще раз махнул рукой и выбежал. Все бросились в дверь, на столах остались тарелки с супом, по ступеням загремели ноги; те, кто не успел к двери, кинулись в радостной панике к окнам.
На хозяйственном дворе, действительно, стояла новая полуторка. Колонисты облепили ее со всех сторон, часть четвертой бригады полезла в ящик. Гонтарь, человек богатырского здоровья, и тот держался за сердце. У кабинки стоял черномазый тоненький человек и застенчиво смотрел темным глазом на колонистов. Зырянский закричал на него:
– Ты механик?
– Шофер.
– Фамилия?
– Воробьев.
– Имя?
– Имя? Петр.
– Ребята! Шофера Петра Воробьева… кача-ать!!!
Это было замечательно придумано. На Воробьева прыгнули и сверху, из ящика, и снизу, с земли. Заверещали что-то, похожее на ура. Воробьев успел испуганно трепыхнуться, успел побледнеть, но не успел даже рта открыть. Через мгновение его худые ноги в широких сапогах замелькали над толпой. Когда поставили его на землю, он даже не поправил костюм, а оглянулся удивленно и спросил:
Ознакомительная версия.