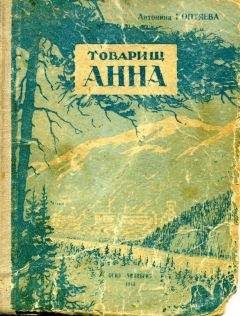— Вы особенно, — тихо вставила Анна, и выражение слабой, тонкой и ласковой иронии оживило её черты. — Меня не то поразило, что там написал мне какой-то дуралей, и не со зла написал, а по доброму расположению. Поразило меня то, что все уже знают о нашем разрыве. Значит, это действительно совершилось. Мне сочувствуют...
Анна выпрямилась, провела рукой по волосам, влажный блик света заблестел на её гладком зачёсе, и Андрей увидел, что голова у неё мокрая и воротник блузки тоже.
— Вы уж постарались, чуть не целый ушат на меня вылили, — виновато усмехаясь, сказала Анна Ветлугину. — Я рада, что никто не видел, когда мне стало нехорошо. Это всё-таки от переутомления... Я же совсем не отдыхала это время. И то своё личное, сказалось, разумеется.
— Да, нам обоим грустно, — проговорил Ветлугин. — Но что же делать? Я много передумал за это время и понял: надо отойти! — Он облокотился на колени, сжал большими руками черноволосую голову; похоже было, что он заплакал. — Вам ещё тяжелее, — глухо заговорил он после продолжительного молчания. — У вас ребёнок. Я не говорю о материальном положении, в этом вы сильнее любого мужчины, но ребёнок... будет скучать об отце.
— Нет, для меня лучше то, что я имею ребёнка, — сказала Анна просто.
Анна подошла к будке землесоса, взглянула на молоденькую мотористку, румяную в своём лиловом байковом платке. Из-под платка смешно торчала короткая коса. Маленькими, по-детски пухлыми руками девушка — дочь одного из старателей — регулировала работу мотора.
Сколько таких пришло на горные работы за последнее время! И таких вот, как эта толстощёкая крепышка, и таких, румянец которых давно растаял, сбежав по морщинам. Что думает она, эта девочка? Она, наверно, радуется своей власти над умным уродом, запустившим железный хобот в кипящую грязь. Он втягивает эту грязь, пыхтя и хлопая, по тысяче кубометров в сутки, но все новая сбегает к нему от высоких обрывов забоя, обрушиваемых жемчужно-белыми струями двух мощных мониторов. Будка землесоса дрожит над водой, сотрясаемая работой мотора, но девушка привыкла к этому шуму, чудовище покорно и послушно ей, и грязные её рукавички спокойно лежат у его чугунных лап на чисто вымытом полу. Сегодня она мотористка, завтра она будет техником, потом — инженером. Она счастливее Кирика, уехавшего всё-таки на «медицинские» курсы: она раза в три моложе его.
* * *
Анна отходит от будки и по узкой дорожке, покрытой грязью, пробирается к руднику.
Она идёт и думает о том, как было бы хорошо заменить насосами тракторы на всех гидравликах управления. Один насос заменяет работу двенадцати тракторов-газогенераторов. Одна девушка заменит четырёх трактористов, и нет постоянных поломок и простоев.
— Это очень выгодно. Это нам здорово помогло.
Кто это так говорил ей? Анна вспомнила десятника-бурята, старика Ковбу, песню в лесу и свои слёзы, вызванные этой песней и неожиданно найденным сочувствием. Анна шла и пытливо смотрела на всех, кто попадался ей на пути. Она старалась проникнуть в их мысли, что бы лучше понять, чем живут и дышат все эти разные, не похожие друг на друга люди.
Мальчишка проскакал по отвалам, размахивая рогаткой. Ему хочется запустить камнем в сидящую на проводе яркорыжую сойку, но в камне светло блеснула слюда, и он замешкал, рассматривая камень. Он кладёт его в карман, он обшаривает отвал со страстью будущего геолога.
Старатель-завальщик с гидровашгерта торопится домой. Он только что сменился. Он устал. Застарелый ревматизм гонит его на отдых, но он увидел свежую газетку подмышкой встреченного инвалида-сторожа. Он расспрашивает о новостях. Сторож не спешит: его работа начинается ночью. Оба останавливаются, закуривают, и начинается разговор.
Прошёл рослый красавец-военный в простой, но опрятной шинели. Это фельдъегерь. Это он провозит по тайге золото и срочную почту. В мороз и в метель. У него бархатные брови, свежее лицо его горит молодым румянцем. Он избалован взглядами девушек и даже на Анну смотрит победительно-нежно. Но вот мальчик лет пяти идёт за матерью, прижимая к груди буханку хлеба обеими ручками. Он не может перебраться через грязную рытвину, лицо его плаксиво морщится, а руки матери заняты грудным ребёнком и корзиной. И фельдъегерь направляется к нему, пачкая грязью свои сверкающие сапоги.
— А ну, держи крепче буханку, — говорит он деловито.
Анна уже далеко, но она слышит и понимает всё, что творится за её спиной.
Это такие разные люди, но в каждом из них Анна узнавала себя. Разве это не она перенесла через грязь мальчика с булкой? Ладони её ещё ощущают теплоту и тяжесть его маленького тела. Она тоже остановила бы незнакомого человека со свежей газетой. Она тоже расспросила бы его...
Вместе с группой шахтёров Анна привычно вошла в железную клеть, но неожиданное ощущение тошноты возникло у неё сразу при стремительном падении вниз.
«Можно ли добровольно ухнуть в пропасть... вот так, совсем... — спрашивала себя она, ощущая нарастающий звон в ушах, и прижимала руки к груди, чтобы утишить, унять поднимавшуюся тошноту. — Ну разве тебе хочется, чтобы лопнул канат и клеть пошла ещё быстрее?»
По узкой щели ходка Анна почти проползла вверх в камеру, освещая путь шахтёрской лампой, и поднялась, осматриваясь. Вот она перед ней, её «десятина».
Только что была произведена отпалка, электрическая лампа не горела, и углы огромного подземелья тонули во мраке. Багровый в серой пыли свет ручного фонаря, оставленного пальщиком, не разгонял сумрака даже в центре, где угловато изломанные серые глыбы, опускаясь постепенно на всей площади камеры, образовали воронку — адский котёл. Хаос камня, мрачные тени, багровый в густой пыли свет невидимого фонаря говорили сердцу о вечности этого камня, о мгновенном сгорании маленькой человеческой жизни. И сердце сжималось тоской под низко нависшим суровым каменным потолком.
Только сделав над собой усилие, Анна вернулась к действительности. И тут же она увидела тёмные фигуры горняков, возникшие из мрака, где скрывался другой ходок.
Люди внесли с собой свет и оживление. Перерыв кончился. Начались обследование забоев и очистка отпаленной породы. И все сразу приняло другой вид и смысл: перед Анной был уже просто рабочий цех, отсюда начиналось движение золота. И какие люди, сильные, смелые, работали в этом цехе!
Оглушаемая треском перфораторов, Анна подошла к бурильщику Никанору Чернову, который опять дал вчера тысячу процентов нормы, — выбеленному, как мельник, пылью, рвущейся из-под его буров, громко заговорила с ним. И в нём она снова искала и находила свои черты.
Надтреснутая глыба висела над самой головой бурильщика. Анна взяла обушок, постучала по кровле. Звук получился глухой, надёжный. Анна не хотела обидеть сменного смотрителя своим недоверием, не хотела обрушить эту глыбу на свою голову и на голову чудесного человека Никанора Чернова, зорко следившего за своими четырьмя станками-телескопами. Просто она привыкла проверять даже то, в чём была уверена.
— Не бунит! — весело крикнул Анне Никанор Чернов, покосив глазом на трещину в потолке.
— Нет, не бунит! — крикнула Анна.
— Не обрушится!
— Нет, не обрушится!
Гул перфораторов заглушал их сильные голоса.
Анна представила могучее медленное движение каменной массы под своими ногами, представила гул моторов, грохот бегунов на фабрике, плавный шелест и шорох транспортёрных лент; звон воды, идущей по трубам гидравлик. Разве всё это не звучало как героическая симфония? Разве труд не создаёт музыку? И разве она, Анна, не познала радость такого труда? Здесь, в мрачном подземелье, рождалась песня. Она зашумела снова над головой Анны.
Но теперь эта песня-воспоминание взволновала Анну по-иному: она почувствовала себя снова гордой, снова богатой тем тяготением к жизни, к людям, каким она владела только в дни ранней молодости.
После доклада Анны на совещании и подслушанного нечаянно её разговора с Ветлугиным Андрей несколько дней ходил как угорелый. Смутные сожаления давили его, и он был то груб и рассеян с людьми, то как будто стыдился смотреть на окружающих.
— А я так люблю тебя, что мне никого не стыдно, — с упрёком сказала ему Валентина при очередном свидании. — Всё равно, все ведь знают. Сколько людей приехало вместе с нами! Отчего же ты не стыдился на пароходе? — И снова ревность к Анне прорывалась в ней. Она была слишком непосредственна, чтобы скрывать свои чувства.
— Анна имеет больше прав сердиться... — начал было Андрей, но не досказал того, что, имея эти права, Анна отпускает его.
— Если ты признаешь её права, то зачем же ходишь на свидания с другой женщиной? — спросила Валентина более надменно, чем зло, задетая за живое.