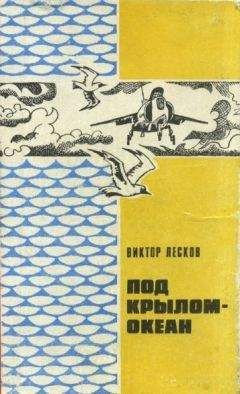— Володенька, я хочу быть твоей, только твоей. — Ее колени подгибались.
Он подхватил ее на руки и, спотыкаясь в темноте на каких-то выбоинах, понес ее к пугающе темневшим ворохам.
Нет, он не был в беспамятстве или невменяемости, или в полной утрате контроля над собой. Не ослеп же он, раз увидел ее сразу настороженно поутихшей, а в открытых глазах страх ожидания; не оглох же он, раз услышал в ее словах мольбу, и отчаянную решимость последнего выбора, и успокаивающую ее саму молитву:
— Я отдаюсь тебе одному раз и навсегда. Я люблю только тебя, больше своей жизни!
Нет, как ни был он беспечен, самонадеян, заносчив, но осталось же в нем что-то такое, что заставило его остановиться.
И он наконец задал ей вопрос, занозой жаливший его весь вечер. Она, закусив губу, отрицательно покачала головой. И сразу ничтожно жалким показался он со своими желаниями в свете ее чистого огня…
— Что же ты так, очертя голову? — Сразу отрезвев, опустил он ее с рук на землю.
И она в этот момент словно вкусила плод с древа познания. Устыдившись, отвернулась и отошла в темноту.
Только теперь Пахарев вспомнил о времени: шел одиннадцатый час.
Они возвращались домой, почти не разговаривая. Он придерживал ее за плечи. Между ними было общее тепло и будто общий ток крови по замкнутому кругу. Им было хорошо и без разговоров.
Но что-то глубоко запрятанное в подсознании отяжеляло душу Пахарева. Неловкость ли, пристыженность, налет досады, или все это вместе являлось глухим упреком самой природы за отступничество, за нарушение естества ее законов вечного круговорота жизни.
Наверное, сумрачность его души чувствовала и Валя. Она останавливалась, привставала на носочки:
— Ты очень сильный, ты настоящий. Я теперь люблю тебя не только сердцем, я как маленькая твоя часть.
А он не забывал, что вся его сила лишь младенец ее слабости. Такова власть женщины.
— Ты меня любишь? — Она старалась пристальней вглядываться в него, чтобы все рассмотреть.
— Я люблю тебя. — Целовал он ее в висок и верил, что говорил правду.
Еще ее волновал завтрашний отъезд. Не столько сам отъезд, сколько вопрос: придет или не придет он ее проводить? Пахарев пообещал прийти.
Она учла, что на перроне им долго прощаться не придется, и своей рукой записала в его блокнот все адреса на два месяца вперед. Основной адрес, домашний, она подчеркнула трижды.
Они простились в подъезде, на лестнице: она уходила по ступенькам вверх, он — вниз, не разъединяя рук до последнего.
Пахарев ее не обманул. Он пришел на вокзал с запасом времени и, сидя на скамейке, мог откровенно рассматривать всю их семью. Да, Ира действительно была красива, независима, надежна. Может, и прав Борис — такой должна быть жена, но любить он мог другую: нежно-доверчивую, ясную, как божий день, девочку в белой кофточке, укороченной черной юбке, туго стянутой в талии, которая свободно охватывалась кольцом его пальцев.
Было видно, что у них добрая семья. Они все по очереди оглаживали ее, отец встряхивал ее за плечи и склонялся к ней, своей маленькой, как гусь на толоке. Догадывался ли он, какой может быть его девочка и что с ней случилось вчера? А Валя, смущаясь, кивала головой и посматривала радостно-счастливым взглядом на Пахарева.
Воздух над перроном казался раскаленно-неподвижным, солнце жарило в спину, а Пахареву очень хотелось, чтобы сбереглась роса на розах в портфеле. Пять ало-атласных роз срезала ему с клумбы прямо напротив их гостиницы самая свирепая из дежурных: «Ах, Володька, ты у нас один такой!»
Звон станционного колокола, истаивая, сходил на нет, кажется, в его сердце. Он почему-то решил, что у нее не хватит смелости нарушить их семейную благочинность.
Валя хорошо воспитанной девочкой обошла всех своих и лишь потом направилась к Пахареву. Он поднялся ей навстречу, отдал розы, так и забыв взглянуть, осталась ли на них роса. Зато он отметил отличное воспитание ее родственников: они даже не смотрели в их сторону. Должно быть, Валя их предупредила.
Валя остановилась в шаге от него:
— Я уезжаю, но я все равно с тобой навсегда! — Это то, что приготовила она сказать заранее. В ямочке шеи, так же как и вчера, билась невидимая жилка, но в смелом взгляде была серьезность школьной отличницы.
— Я буду ждать! — добавила она с решимостью клятвы.
Поезд с лязгом дернуло, и она побежала в вагон. Уже из тамбура она помахала ему в последний раз букетом роз: не отцу, не матери, не сестрам, а ему.
«Я буду ждать… я буду ждать… я буду ждать…» — все отстукивало, затихая и отдаляясь, на бесконечности рельсов…
* * *
Конечно, они никогда больше не встретились. Володя Пахарев так и не написал ей ни одного письма. Из объяснений Бориса на утро следующего дня он понял, что Валя действительно принимала его за кого угодно — сказочного богатыря, благородного принца, легендарного аса, — только не за того, кем он был на самом деле. Зачем держать в заблуждении юную душу?
Было, он даже в какое-то время вообще забыл о ней. Жизнь не остановилась после их прощания. Его любили, и ему казалось, что он тоже любил. Но чем больше он жил, тем чаще вспоминал тот теплый вечер и девочку в халатике. Никто и никогда его так больше не любил. Безоглядно, опрометчиво, чисто. Только за то, что он был рядом. А все другие обязательно от него чего-то хотели, ждали, добивались. И странное дело, ему не однажды приходилось сожалеть, что с кем-то допустил близость, и ни разу он не пожалел, что не допустил ее с Валей. Было другое: с годами не забывалась, а все больше обострялась та отяжеленность души, которую он почувствовал, когда они возвращались домой. Что помешало им тогда встретиться и остаться вместе навсегда? В жизни каждого человека лишь раз бывает не только шестнадцать или двадцать лет, а и первая вспышка любви — яркая, как ослепляющий магний: лишь раз можно безотчетно отдаваться своему чувству. Это, наверное, и есть знак судьбы. Это остается на всю жизнь. А все, что бывает потом, — только отблески на вращающемся многограннике зеркал. Знает ли об этом человек? Дорожит? Отстаивает?
Он часто думал о том, что страницы судьбы нельзя отлистывать назад, нельзя остановиться на самой интересной. Они перелистываются без задержки, все вперед и вперед. Только от тебя одного зависит, чем ты их заполнишь: счастьем или горем. Можешь вовремя понять, что именно должен внести, — значит, повезло, не можешь — они перелистываются пустыми. Правду говорят: нет в жизни черновика, все набело!
Конечно же, и та девчонка все так же любит и будет любить его всю жизнь. Она выйдет замуж, будет растить детей, но всякий раз, прислушиваясь к звездам, сердцем своим она будет вместе с тем беспечным лейтенантом, у которого были такие нежные руки и такое большое сердце.
Всякий раз, когда Владимир Петрович Пахарев, так и оставшийся в холостяках, отправлялся в отпуск, перелистывал старый блокнот, то находил ее адреса, записанные безукоризненным почерком отличницы. Потом всю дорогу в поезде вагонные колеса выстукивали ему одни-единственные слова: «Я буду ждать… Я буду ждать… Я буду ждать…» И ему казалось, что это строки из песенки о его нелепо не состоявшемся счастье.
Однажды он не выдержал и завернул в места лейтенантской службы. Он сообразил, что по адресу, подчеркнутому трижды, должен быть телефон. Действительно, справочная сразу дала номер.
Ему ответил женский голос — увядающий, но еще достаточно властный.
— Вы меня извините, здесь девять лет назад жила Валя… — И Пахарев назвал ее фамилию.
Можно было предположить, что там слишком долго вспоминают. Или сорвалась линия связи. Потом наконец спросили:
— Кто это звонит?
— Едва ли вы меня знаете. Мы не знакомы.
— Я знала всех ее друзей, — ответили там твердо.
Пахарев представился по полной форме.
— Почему же я вас не знаю, Володенька? Я вас очень хорошо знаю.
Телефонная трубка повлажнела в его ладони.
— Валюша утонула в ту же осень. Это был несчастный случай, но вы имеете право знать, как все произошло.
Пахарев, когда собрался искать ее, готов был ко всему, что она счастлива или несчастлива, в замужестве или одинока, большой судьбы или потерянной. Но только к этому не был готов. Какая смерть? Что ему говорят? Вали нет? Ее нет на этой земле, в этом мире? Ни следа, ни взгляда, ни голоса? И никогда больше не найти, не встретить, никогда больше не привстанет на носочки: я как маленькая твоя часть… Нет его стебелька, его нежно доверчивого солнышка, его несостоявшейся судьбы.
— Она решила, что вы погибли, — ватно застряло в ушах Пахарева.
Погиб? Почему он должен погибнуть? Ах да, опасная работа. Ведь это правда, действительно правда. Он давно погиб, погиб много лет назад, сам того не замечая. Он погиб не только для нее, а и для себя, для своей личной жизни, когда побоялся ее и своих чувств, когда начал жить в жестких рамках рационализма. Но это была уже не жизнь, а роль, игра, запрограммированное движение автомата. А настоящая, полная жизнь — с любовью, разлуками, страданиями, счастьем — осталась там, в далеком звездном вечере, осталась вместе с девочкой в ситцевом халатике.