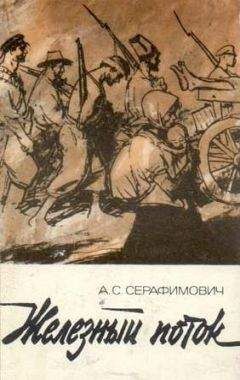Поп говорил и говорил, а крестьяне, бабы крестились, кланялись, точно ветром их клонило, и казалось им – густой туман, не то дым, вековечный дым наползал на них, отнимал глаза, уши, волю. А поп все говорил и говорил. Потом высоко поднял крест и вдохновенно провозгласил, точно дух божий его осенил:
– Братие, спокайтеся! Спокайтеся перед господом богом нашим Иисусом Христом, перед святым его евангелием целованием святого животворящего креста его, и он, милосердный, отпустит ваши тяжкие прегрешения, которые неодолимо влекут вас в геенну огненную, где в страшных муках нераскаянные грешники будут вечно кипеть в смоле и вотще взывать о помиловании.
По площади пронеслись испуганные бабьи вздохи. Крестьяне повесили победные головушки. Подходили по очереди к аналою, клали земной поклон, целовали евангелие и крест, потом повторяли за попом:
– Клянусь перед святым евангелием и животворящим крестом говорить сущую правду.
Потом один позади другого становились к начальству, и оно по очереди допрашивало. Лица у крестьян и баб замкнулись, сделались тупо-покорными.
– Знать не знаем, ведать не ведаем.
Со злости начальство арестовало на авось, по указанию управляющего, старшины и урядника, тридцать семь человек и отправило в город, в тюрьму, – дожидаться суда.
Суди меня, судья неправедный
Истомились крестьяне, сидя за решеткой; совсем серые стали, скелеты скелетами, кожа да кости, не узнать, – больше года сидели.
Раз загремели железные затворы. Стуча прикладами, вошли солдаты и повели в суд. В суде протянулся длинный стол, покрытый красным. А за стулом, посередке, тучный председатель в мундире, и воротник у него весь в золоте.
«Должно, много денег пошло на воротник, – подумали крестьяне, испуганно глядя на председателя, – дюже уж серьезный».
А по бокам – судьи. Глянули – да это старшина Шарапоновской волости. Лют. Вся округа его знает. Ражий, с доброго борова, красный, как мясо, глаза маленькие, а у самого мельница в аренде да лавка под железом. Сожрет, за барина постоит, – одного поля ягода, вместе крестьянина сосут.
С тоской отвели глаза. Глянули на другого. Да ведь это предводитель дворянства, друг-приятель барина, в гостях у него постоянно. Добродушный, и бакенбарды у него на две стороны, а и этот съест за барина, не иначе, – дворяне. Засосало у крестьян. Эх, праведные судьи!
А тут сбоку такой костлявый, шкелет шкелетом, а сам в мундире. Так этот с первого слова на крестьян опрокинулся: и разбойники, и грабители, и смутьяны, и поджигатели. Мурашки по спине поползли. Прокурор.
Ну, крестьянский адвокат ловок, за аналоем стоит да так и сыплет, так и сыплет супротив прокурора. Большую славу себе приобрел на крестьянских делах, славу приобрел, а от нее деньги пошли: все его нарасхват стали брать. В тюрьму к ним все приходил, – не робей, говорит, ребята: доказательств, говорит, никаких нету.
Крестьяне на все вопросы покорно одно отвечали:
– Никак нет. Не могим знать, только мы невиноватые.
А адвокат – ловок, бес! Недаром у него черная одежина сзади хвостом – попривел кучу свидетелей, крестьян же, баб из ихней деревни, и доказал: один обвиняемый дома сидел в ночь поджога и когда портили коров – соседи видели; другой аккурат в это время в земской больнице лежал с вывихнутой ногой, оттуда и удостоверение дали; третий в лесу дрова рубил, порубщики удостоверили; четвертый был в городе, сено возил. Крутят злыми головами судьи, наскакивает шкелет, а ничего не могут поделать, – доказательств-то действительно никаких нет, так и оправдали, – начальство-то впопыхах да в злобе заарестовало не тех, кого надо, невиновных заарестовало. Так и уехали крестьяне.
Приехали да взвыли: избы заколоченные стоят; во дворах, под сараем, все чисто, как корова языком слизала; ни лошади, ни овцы, ни коровы, ни бороны, ни одежи – все продали за недоимку барину, а бабы с ребятишками ушли по кусочки.
Да и всю деревню разорили дотла – до копеечки взыскали баринову аренду, да еще с неустойкой.
А жить надо, а кормиться надо, а арендовать баринову землю надо, а в церковь, что посреди села стояла, ходить надо, а поборы попу давать надо, – и опять потянули вековечный хомут худые, почернелые, полопанные крестьянские шеи.
Эх, жисть!
Что ж ты наделала, бабонька!
Пришел великий пост. По утрам и по вечерам печально и редко зовет колокол: к на-ам!.. к на-ам!.. к на-ам!..
Это – монастырский колокол. Вон он белеет, монастырь, белыми стенами, а из-за стен блестят главы и кресты.
Хорошо там живут монахи, ишь ходят черные – сытые, ядреные. Да и как им сытно не жить – эва, кругом все ихние, монастырские, поля; а по речке – ихние, монастырские, заливные луга; а за лугами – ихний, монастырский, лес. Угодий у монахов поди столько же, сколько и у барина.
Крестьянину курицу, скажем – курицу, и ту выпустить некуда.
Ну, как же монахи – сами экую махину земли и обрабатывали? Да нет же, не для работы жили монахи в монастыре, а для молитвы за грехи.
Крестьяне-то бесперечь грешат и тянут грехи в монастырь, а монахи их отмаливают, да не даром. За отмоленье крестьяне и землю вспашут, и луг скосят, и делянки в лесу вырубят; бабы снопы повяжут, и сады уберут, и холстов монахам наткут, и за коровами, за птицей походят, – вот громадное монастырское имение и справлено. За это измученные, зарезавшиеся на работе, голодные, оборванные крестьяне идут домой чистенькие от грехов, как младенцы новорожденные, а монахи садятся за стол и вкусно и сытно едят, по кельям и винцо попивают.
Опять у монастыря и другой доход. Прогнали крестьяне по монастырской дороге скот – плати. Упустили крестьяне лошадь на монастырскую землю – плати. Пошли бабы грибков набрать в монастырский лес – плати. Крестьянин плачет, а монахи радуются – много доходу.
Так и жили, с одной стороны – деревня, с другой – монастырь.
«К на-ам!.. к на-ам!..»
Идут в монастырь старухи, молодые бабы, девки; несут ребятишек, идут крестьяне, несут свое горе, свою нужду, несут к богу да к попу, – куда же крестьянину больше и нести? Не к кому во всем свете.
А поп накроет епитрахилью и скороговоркой (очередь-то исповедников – страсть!) спрашивает грехи. Ох, много у крестьянина грехов, на воз не заберешь. А поп уже: «Отпускается и разрешается… во имя отца и сына…»
Только с бабами поп подолгу и ласково толкует под епитрахилью, подробно выспрашивает грехи и ласково и громко именем бога отпускает их.
А бабы и рады. Поп все время – и в проповедях, и на дому с молитвой, и где встретится – всегда громким, покоряющим голосом говорит крестьянам о грехах, об аде, о пещи огненной, где гореть крестьянам в огне неугасимом.
И начинают верить крестьяне: все несчастья, все горести, все беды, все разорение – от грехов; кабы не грехи, жили бы беспечально.
Пришел хромой солдат. Накрыл его поп, спрашивает про грехи. Твердит солдат: «Грешен, грешен, грешен…» А поп спрашивает:
– Не палил ли бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?
Затаился хромой и сказал глухим голосом:
– Нет… в этом не грешен, батюшка.
– Отпускается и разрешается… отца и сына…
Подошла хромого баба, положила поклон, накрыл поп и слышит – шепчут истомленные, истрескавшиеся бабьи губы:
– Грешная… грешная… грешная, батюшка.
А поп строго:
– Помни, грех смертный на исповеди перед самим невидимо присутствующим богом укрывать грехи.
И загремел поп божеским гневом:
– Проклятие господне незамолимое на том, кто перед господом не откроет свою грешную душу!
Потом опять заговорил ласково и внушительно:
– Не палил ли твой муж бариновы скирды? Не резал ли сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?
Задрожала баба, от пят до головы задрожала, и чует – замерла вся церковь. А церковь все та жеюдни крестятся, другие стоят на коленках и кладут поклоны, третьи возжигают свечечки перед ликами святых, а иные сидят на полу, дожидаются исповеди, – как было в церкви, так и есть. Стоит баба ни жива ни мертва. И так рванулось сердце у ней, а вдруг скажет она последний страшный грех, очистится душа, как говорил батюшка, от всякия скверны, и господь оглянется на них, снимет все тягости, все горести, все бедствия-несчастия, всю нищету снимет со всей деревни, и перестанут умирать от голоду ребятишки, перестанут их бесперечь таскать на погост, перестанут маяться неизбывной маятой крестьяне и бабы, вздохнут все. И закапали у бабы слезы, закапали под епитрахилью – замученные вековечные бабьи слезы, закапали ей на руки, на аналой, на крест, на евангелие, а поп к самым губам ухо протянул. Ах, бабочка сердечная, али не прожгут твои слезы креста медного, золоченого, не прожгут насквозь до самой до земли!
И прошептали ее уста: