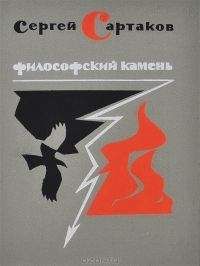В дверь постучали. Куцеволов крикнул: «Да, да!»
Вошел Епифанцев, сотрудник ЖОХРа, и с ним невысокая девушка в разбитых, вытертых унтах, в залепленной угольной грязью домотканой куртушке. Толстый, промокший на дожде платок был сбит на затылок. Лицо красивое, тонкое и в то же время бледное до синевы, то ли от голода и усталости, то ли просто неумытое.
— Товарищ Петунин, вот еще одну задержали, — сказал Епифанцев и подтолкнул девушку вперед, к столу. — В товарном вагоне со сбитой пломбой обнаружили. А там тюки с шерстью, шкуры бараньи невыделанные. При обыске, правда, не найдено у нее ничего.
И он повел рукой, как бы продолжая свою речь уже мысленно: «Да сами поглядите, чего при ней может быть!»
Куцеволов равнодушно посмотрел на задержанную: «Ну, а ко мне-то в кабинет зачем же привел? И без этого дал бы я санкцию». Епифанцев стоял, переминаясь с ноги на ногу. Понятно: симпатизирует девице. Он всем симпатизирует. Ему бы не в ЖОХРе, а в детдоме служить.
Похожих случаев каждый день несколько. Ничего исключительного такие оборвыши не представляют, обыкновенные «зайцы». Но когда они едут в товарных вагонах, сбивая при этом пломбы, приходится все-таки составлять протоколы и задерживать зайца, пока не будут проверены накладные. Материалец совсем не для старшего следователя, но сегодня дежурит он, и надо делать — Куцеволов про себя улыбнулся — уже не только «белую», но и «черную» работу. За Епифанцева, альтруиста и недотепу.
— Садись, — сказал он девушке. И, вынимая из папки чистый бланк протокола допроса, поинтересовался: — Пломбу сбила сама?
Опытный заяц ответил бы: «Нет. Не знаю. До меня была сбита». Девушка утвердительно наклонила голову. Села, постукивая от холода зубами. Епифанцев сел на другой стул, напротив девушки.
— То же и я спрашивал. Ответила: «Сама», — сказал он с таким оттенком в голосе, будто советовал ей не признаваться, а девушка или не поняла этого, или не хочет лгать. И продолжил, все с тем же скрытым упреком: — Ей бы заранее перед Москвой где сойти, а она пригрелась на шерсти, заспалась, вот те и въехала.
— Ну ладно, она сама все расскажет, — сухо остановил Куцеволов. Обмакнул перо в чернильницу, занес над листом бумаги. — Фамилия, имя, отчество? Возраст?
— Рещикова. Людмила Андреевна. Мне девятнадцатый.
Перо у Куцеволова на мгновенье повисло в воздухе. Что-то знакомое почудилось ему в сочетании фамилии, имени и отчества этой девушки. А что именно — сразу вспомнить не мог. Медленно стал записывать.
— Погоди… Буква какая: «ща», Рещикова или Резчикова? — спросил он. От слова «резать»?
— Нет, Рещикова. Через «ща», — сказала Людмила. — Я не знаю, от какого слова моя фамилия.
Куцеволов записал. Смотрел на Людмилу молча. Память вдруг подсказала: при отступлении из Мариинска в двадцатом году его карательный отряд передали под временную команду капитана Рещикова, мягкотелого болвана и чернокнижника. Он тогда тоже, точь-в-точь как сейчас, только с насмешкой, переспросил штабного офицера, через «ща» пишется фамилия капитана из адвокатов или произведена от слова «резать».
Он смотрел на Людмилу и никак не мог задать очередной вопрос. При капитане Рещикове были дети. Кажется, двое: мальчишка и девчонка. Была в санях с ним и жена, больная тифом. Она называла капитана Андрюшей. Это точно.
— Где твои родители? Есть братья, сестры? — с расстановкой спросил Куцеволов, забыв о незаполненных еще обязательных пунктах протокола допроса. — Кто они?
Веки у Людмилы дрогнули. Документов при ней нет никаких. Что она скажет, то и будет записано. Если скажет всю правду, значит, снова она станет «белячкой», а выдумывать, лгать, отказываться от отца с матерью она не может. Ну никак не может! И «белячкой» зачем же ей навсегда оставаться? Она сбежала из Худоеланской не только от подлостей Голощековых, сбежала как раз еще и от этой клички, так позорно к ней прилепившейся. Она хочет жить, как все, и работать и веселиться вместе с людьми, а не бродить по праздникам одиноко, в лесу. Она ехала сюда, в Москву, ради совсем иной жизни. И всю дорогу сменные кондуктора, принимая ее за беспризорную, поддерживали и ободряли: «Советская власть, девушка, ни одному человеку не даст пропасть. Только ты сама для нее постарайся». Сама-то она постарается! К ней бы отнеслись с полным доверием!
Почему же она так растерялась, назвала сразу свою настоящую фамилию? Что сказать сейчас на вопрос следователя?
— Они все умерли. В двадцатом году, — с запинкой ответила Людмила.
И Куцеволов почувствовал, что девушка сдерживает себя, говорит ему неполную правду. Не хочет сказать сразу, кто ее родители. Что ж, это естественно.
— Та-ак… А едешь откуда? — спросил, не требуя точного ответа ему на свой первый вопрос. Он его уже прочитал в глазах девушки.
— Еду из Худоеланской… Это в Сибири, — опять запнувшись, ответила Людмила. «Что же она делает! Снова рассказывает все, как есть. А не говорить правду — тут же запутаешься».
Куцеволов в десятый раз обмакнул перо в чернила. Да, помнится, именно о Худоеланской и шел разговор, когда они сбились в роковом двадцатом году с Братск-Острожного тракта и пытались выбраться снежной целиной к Московскому тракту. Неужели это действительно дочь того самого капитана Рещикова? Любопытная встреча! Она тогда все время куталась в шубку, закрывала от жуткой стужи лицо воротником. Не помнит в лицо он ту девчонку, совершенно не помнит. Могла ли она запомнить его? Куцеволов невольно потянулся рукой к бороде, короткой, но очень густой.
— И как ты жила эти годы без отца и без матери? — задал он новый вопрос, опять не стремясь сразу, в упор, выведывать, «тот» или «не тот» Рещиков отец этой девушки.
— Ну, жила…
— Как ты оказалась в Худоеланской?
Людмила молчала, покусывая обметанные холодом губы. Тяни не тяни, а он все равно дознается.
Куцеволов повторил свой вопрос.
— Жила у чужих. Когда не стало своих, куда же мне было деваться?
Так, так… «Все умерли…», «Когда не стало своих…» Куцеволов вертел перо над листом бумаги… Значит, капитан Рещиков нашел свою гибель где-то под Худоеланской. Такая же судьба, по-видимому, постигла и весь его отряд. Подробности? Это все узнается потом, постепенно… Капитан Рещиков погиб. А он, Куцеволов, тогда повернул обратно с половины дороги, и вот он жив. Что это было — счастливый случай? Или точный расчет?
— А зачем ты сюда, в Москву, пожаловала?
— Ну… Больше мне некуда…
— О-о! Некуда больше? Что же, здесь родственники есть у тебя? Или знакомые?
— Знакомые. — Людмила трудно перевела дыхание. И уточнила: — Есть один хороший знакомый.
Ей подумалось, что вот о Тимофее надо, пожалуй, сказать все. Тогда к ней больше будет доверия у этого строгого следователя. Неужели повредит Тимофею, что она, задержанная как беспризорница в товарном вагоне, назвала его здесь своим хорошим знакомым? А ей-то ведь это очень поможет!
Не дожидаясь очередных вопросов Куцеволова, Людмила стала обстоятельно рассказывать, что ее знакомого зовут Тимофеем Павловичем Бурмакиным, что он вот уже два с лишним года учится в Лефортовской военной школе, а сам он тоже из Сибири, с Кирея, — это недалеко от Худоеланской. Бурмакин давно служит в Красной Армии. Он из дому еще мальчишкой ушел воевать. Потому, что мать у него застрелили белые и его соседей на Кирее тоже всех перестреляли…
Куцеволов записывал все, что говорила Людмила, записывал, даже не думая о том, что к делу о проезде в товарном вагоне со сбитой пломбой это, собственно, никак не относится. Каждое слово девушки, оборванной, измазанной угольной гарью, теперь все определеннее подтверждало: да, это дочь именно того самого капитана Рещикова. И потому надо все как можно подробнее выспросить у нее, чтобы точно решить, как с ней поступить дальше — из классовой, так сказать, солидарности, помочь по-настоящему или, из осторожности, быстрее сплавить куда-нибудь в исправительно-трудовую колонию. Особенно бояться этой девицы во всяком случае нечего…
Он писал торопко, легко, почти со стенографической точностью поспевая за неровной речью Людмилы. Так… Знакомый — Тимофей Бурмакин, он учится в Лефортовской военной школе, сам тоже из Сибири…
Перо летело по бумаге. Но по мере того, как чернильные строки заполняли бланк допроса, у Куцеволова как бы вступало в действие второе зрение, всплывали картины той жестокой зимы…
…Оледеневшая река. На крутом берегу в ряд выстроились четыре избы. Над крышами курятся голубые дымки. Это — поселок Кирей.
…Красивая баба, гордо отступившая, когда он ее припугнул своей витой плетью. Не опуская глаз, баба говорит:
«Дороги на Московский тракт отсюда нет. Глухая тайга впереди…»
«Куда же нам ехать?»
«А этого я и не знаю. Откуда приехали, туда и езжайте…»