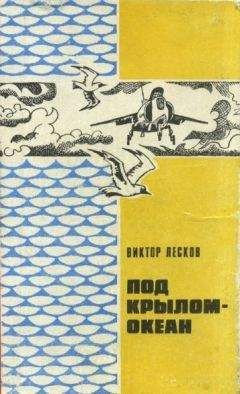Кто хорошо знал Михалыча, тот старался не обращать на него внимания, а Горюнов, человек новый, прямо сказал после одного из таких «экспромтов»:
— Микитин, если вы не перестанете бегать по дворам и связывать нас одной веревочкой, я вам говорю, вы здесь служить не будете!
И на втором заходе ничего доброго не получилось. Микитин хорошо вел цель до удаления трех километров. А потом начал нервничать:
— Я вам даю левее сорок! Почему не исправляете?
Летчики хорошо знают, как оно бывает в сложных условиях, когда нет взаимопонимания с руководителем посадки. Точно начинает долбить по нервам, как дятел. На удалении двух километров Двести первый оказался значительно правее створа. Микитин уже и не пытался выводить его на полосу.
— На повторный! — закричал он таким голосом, каким вытаскивают не иначе как из могилы.
После того как затихла очередная волна пролетевшего самолета, в динамике прозвучал доклад командира корабля:
— «Графит», загорелась лампочка сверхаварийного остатка. Топлива на последний круг. — И была в его голосе суровая готовность к любому испытанию судьбы.
— Понял вас, — подавленно ответил Горюнов.
— У вас посадка боится вести меня до конца, — сказал Двести первый с грустным упреком.
— Сколько должен, столько и веду! — не в эфир, а для тех, кто был на командном пункте, ответил Микитин.
— А дальше? — смотрел на него Горюнов, и все видели, как пошло пятнами его лицо.
— Дальше? Ты у меня спросил, когда начал принимать, как быть дальше? А я на свободе хочу жить!
Он не кричал, не размахивал руками, а говорил негромко, с придыханием, и это было хуже всего.
— Ты же доказывал здесь, что свободно обойдешься без меня, что вообще эрэспешников надо сократить, — уличал он Горюнова.
Было, доказывал Горюнов, что теперь, когда у руководителя полетов появился на столе вынос локатора, он и сам может подсказать летчику об отклонении. Но какое отношение имели сейчас те споры к теперешней ситуации, когда надо не говорить, а делать и когда от каждого требуется выложиться до конца — что можешь, на что только способен? Пусть Микитин тысячу раз прав, однако от этого никому не легче. А самолет в воздухе, и они не могут его посадить — вот от чего никуда не денешься. Выполнит еще один круг — и начнет падать в океан с остановившимися двигателями. Факт оставался фактом: они, весь личный состав запасного аэродрома, не могут помочь терпящему бедствие экипажу…
— Двести первый, — вышел в эфир капитан Горюнов.
— Отвечаю.
— Выполняйте заход, я буду управлять вами.
— А можешь? — нарушил командир корабля правила типового радиообмена. В голосе сомнение и надежда.
— Да, приходилось, — так же запросто сказал ему Горюнов.
Где, когда приходилось? Что он берет на себя? Сердце сердцем, а ни с чего оно сбиваться не начнет. По замашкам видно, и там, на материке, этот молодой слишком много брал на себя. Но где-то явно не рассчитал свои силы. А что же делать, если вот так случается в жизни?
Ну а как чувствует себя теперь Микитин?
Он сидел боком к своим экранам и продолжал молча курить. Никто не смотрел на него, а каждый думал еще об одном измерении жизни. О какой свободе он говорил? Есть люди, которые живут только из страха. Те, кто занимается делом не по таланту, и те, кого сжигают тайные страсти… Самое высокое, чего он достиг, — это место «правака» на двухштурвальном самолете. Дальше — разбирательства, понижения, переводы, пока не попал в этот район.
Он жил здесь один. А жена с сыном — за несколько десятков километров, в рыбацком поселке. И странным образом преломлялись сейчас применительно к Микитину самые обычные категории человеческой жизни.
Приезд женщины в этот трудный, затерянный гарнизончик не вслух, но принимался прекрасным актом самопожертвования, что испокон веков отличало душу матери и жены. Жизнь Гали Микитиной на острове объяснялась только простой необходимостью материального обеспечения семьи. Никому и в голову не приходило судить ее за жизнь без него: от одних только разговоров — кем бы он мог стать! — можно уйти из дома. Ни у кого не вызывало недоумения, по какому праву она переводила все виды его довольствия на свой счет. А как же иначе?
Или почитание родителей — оно всегда само собой разумеется. Однако когда отрок Микитина называл отца не иначе как предком, то сначала думалось о родителе, а потом уж о воспитании сына.
Или, скажем, упреки супругов в неверности. Для посторонних они всегда пустой звук. Попробуй разбери, кто прав, кто виноват. Но когда упрекал Микитин, то хотелось крикнуть: «Позвольте! Женская верность в руках мужчины! Всегда женщина хочет быть верной только одному! Тысяча против одной!» И вообще, кем надо быть, чтобы веселую певунью, ясноглазую красавицу, очаровательную умницу Галю Микитину называть грешницей?!
«Вы называете его тонких дел мастером? Видимость в оправдание своего существования», — заводилась сама Галя Микитина с полуоборота, когда кто-нибудь начинал расписывать перед ней деловые достоинства мужа. Возможно, в этих обвинениях и была часть ее оправданий, но тем не менее оставалось истинным другое: всех можно обмануть — товарища, сослуживца, командира, мать родную, наконец, а жену — никому еще не удавалось! Только жена знает вес доподлинно о своем муже.
Кто бы сказал сейчас, о чем думал Микитин возле своих экранов? Чего бы хотел? На что рассчитывал?
Как только Горюнов выдал первую команду после выхода самолета на предпосадочное снижение, все сразу почувствовали что-то отличавшее его от Микитина.
— Удаление четырнадцать, левее полсотня, пройди пока с этим курсом! — Здесь было соучастие, кровная заинтересованность, что ли.
Потом следующая:
— Удаление шесть! Отлично идешь! На курсе-глиссаде!
Потом начали помаленьку разбираться: да, они — командир корабля и капитан Горюнов — два мастера, прекрасно понимавшие друг друга, жили одним чувством — чувством полета.
— Удаление два, левее тридцать, чуть подверни вправо. Так держи! Прожектор, дать луч!
Угадывался еще в Горюнове инструктор высшей квалификации. Будто сидел рядом с летчиком и легонько поддерживал штурвал, зная все наперед, упреждая от ошибок.
— Удаление один! Не ищи полосу, пилотируй по приборам!
Он не успел договорить. Его перебил командир корабля ликующим восклицанием:
— Вижу! — Как скитавшийся мореплаватель, увидевший наконец желанную землю.
— Прибирай обороты. Полоса перед тобой!
Когда самолет сел и, заканчивая пробег, словно продираясь сквозь колючую проволоку снежного заграждения, остановился наконец перед КДП, все кинулись поздравлять Горюнова. А думалось о любви. Женщины, есть все-таки мужчины, которых можно любить. Мужчины, пощадите жен, не лишайте их любви к вам!
Однако есть над людьми один-единственный бог — время. Время не только оставляет морщины на наших лицах, но и перекраивает по своей прихоти людские души. То, что казалось в юности святым, чистым, возвышенным, на перевале жизни становится просто будничным, пустяковым. Ну, скажем, Микитин. Разве пошел бы он, случись такое в его лейтенантскую пору, к самолету? Конечно же нет! Это был чужой праздник, и он там не то что званый — нежеланный гость. Тогда бы он казнился, проклинал, не находя себе места, минуту малодушия. Нельзя сказать, что и теперь Микитин не испытывал угрызений совести, — было, где-то червоточило, теребило душу, но так далеко, что не стоило прислушиваться, напрягать внимание к собственным сомнениям.
Когда человек считает свою службу оконченной, а все его помыслы только о пенсионном жительстве, то на происходящие вокруг страсти он смотрит уже сторонним взглядом, из того, мнимо будущего, покоя. Дескать, чего в жизни не случается! Что же теперь убиваться? Самолет сел, все успокоилось, и жизнь снова вошла в привычное русло, и все в ней снова восстановилось в первом измерении — как есть на виду. Да и что, собственно, произошло? Ну, покомандовал Горюнов на последнем заходе. Так что, из-за этого в петлю лезть? Нет, жизнь продолжается. А на экипаж интересно посмотреть: новые люди, торжественный момент возвращения — хоть банкет заказывай…
На подходе к самолету навстречу им от группы спешившихся летчиков направлялся явно старший — видно было по его уверенному шагу, командирской твердости взгляда, седине висков.
— Кто меня сажал? — шел он, поскальзываясь на кожаной подошве, не обращая внимания да пургу, трепавшую полы расстегнутой меховой куртки. Погон его не было видно, и никто не знал, как себя вести с этим гостем. Черт его знает, может, генерал какой пожаловал, и как бы не попасть впросак, не нажить неприятностей.
— Кто меня сажал? — снимал он на ходу часы, блеснувшие золотом браслета.
Он не шел — летел на крыльях к этим людям, чтобы троекратно, по обычаю вернувшихся живыми, обнять и расцеловать каждого. В его светло-каштановых глазах ликование возвращения к жизни и торжество счастливого мига удачи: он — на земле, с ними, в мире добрых людей…