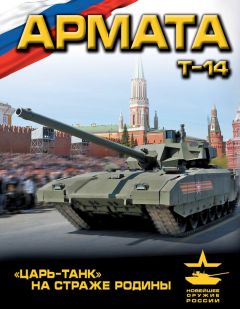— Мой-то младенчик нехрещеным так и похоронен.
— То и говорю, надо нам и об душе подумать... Все помрем, ни один не увернется. Вот по этому самому случаю нам ни спать, ни есть, а хлопотать об храме божием.
Кругом одобрительно загудело:
— Правильно!..
— Верно!..
— Не для ради мамона же все...
Захарка опять спокойно и уверенно оглядел толпу, чувствуя ее в своих руках.
— Сделаем сбор, раскладку, доброхотные даяния, кто сколько по силам, хуторяне которые тоже лепту свою, железная дорога даст, а я от себя жертвую на храм божий пятьсот целковых.
И опять загудело доброжелательно:
— Правильно!.. та-ак... Храм божий... Без бога ни до порога... Человек по совести говорит...
— Просить Захара Касьяныча, чтоб от общества ходатаем был и чтоб суммы сбирал...
— Про-сим!..
— Я согласен, господа старики, только выберите двух помощников, чтоб нареканиев не было.
Помощников выбрали. Захарка набрал всею грудью духу и опять заговорил хриповатым голосом, точно вбивал в эти сгрудившиеся около него головы:
— Теперь другое. Надысь ночью выглянул на улицу, глядь, двое полицейских идут. Гляжу, шинели у них подобраны и кушаками округ пояса прихвачены. «Что, говорю, такое?» — «А это, чтоб бежать ловчее...» — «По какому случаю?» — «А по случаю, говорят, размножения хулиганов. Проходу не дают: как ночью увидят, так бить...» Видали? Они должны стеречь покой населения, а они шинели подвязывают, чтоб ловчее бегать от воров...
Кругом благодушно побежал смех:
— Своя кожа ближе к телу...
— Знамо, в резвых ногах сила.
— И заяц ногам рад...
Захарка так же хмуро и пренебрежительно подождал.
— Вот по этому по самому я, господа старики, говорю. Пущай нам назначут полицию, и чтоб заседатель у нас жил, — поселение торговое, эва, раскинулось; по крайности, по ночам будем спать спокойно.
Кругом смолкло, перестали лущить подсолнухи, и лица недоумело поворачивались то туда, то сюда.
Потом, точно побежал ветер и зашелестело старой листвой, задвигались головы, и, все разрастаясь, пошел говор:
— Полицию захотел...
— Соскучился...
— На брюхо себе посади да цалуйся!..
— Нам она нужна, как кобелю шляпа.
И опять красно-лохматый Борщ согнал рассевшихся по крыше воробьев, покрыв все голоса:
— Га!.. невкусно? Который честный человек, ему полиция — первый друг... а ворам да мошенникам...
Но и его грохочущий голос не выдержал и потонул во взрыве голосов, сердито перекатывавшихся из края в край над злобно сверкавшими лицами и лесом поднятых кулаков, словно налетевший ветер вздыбил по степи черный бурьян.
— Дома настроили, теперь полицию!..
— Под железною крышею спать спокойно.
— Награбили, теперича на отдых.
— Грабители!.. Душегубы!..
— Сколько народу перепортили...
— Слез пролили, — в год не вытрескаете!
Захарка махал рукой и что-то кричал, но не было слышно... Видно было, как Борщ разевал широко черневший рыже-лохматый рот, но тоже не было слышно.
Над головами поднялась косматая, перехваченная ремешком голова сапожника. Он отчаянно мотал руками, как будто летел или плыл, загребая руками по воздуху, к Захарке, благословляя толпу. Но он не плыл, а изо всех сил старался не сорваться с высокого и узкого обрубка, на который взобрался.
И услыхали пронзительный голос сапожника, все так же отчаянно боровшегося с качавшимся под ногами обрубком:
— А ежели да честно человек заработать хочет, и тринадцать человек детей? Это как понимать надо?.. А то зараз: хвальшивый!.. полицию!.. А между прочим доподлинно известно, Захарка торговал медвежьими деньгами; а то с чего бы так пошел?.. Сюды пришел лапоть на левой ноге, а теперя полиция понадобилась!..
И, высоко подняв брови, закричал фистулой:
— Я, братцы, претензию зая...
Но обрубок одолел, и сапожник, последний раз взмахнув руками, скрылся. Кругом весело побежал смех.
— Нырнул!..
— Чеботарь полицию не любит — сапоги хвальшивые шьет.
Захарка воспользовался.
— У кажного — семейство, у кажного — забота, кажный заработать хочет. Ну, только полиция не препятствует. Ежели потрафило, и от властей какое-нито беспокойство, ну, дал зелененькую — и шабаш. А то хорошо, что ль, — позапрошлый месяц в землянке восемь человек вырезали и денег всего нашли три копейки. До богатых им трудно долезть, оберегают себя, там и сторожа и рабочие, ну, а к бедному толкни дверь — и тут. Собственно, об этом и хлопотать, чтоб бедный ты, а все одно можешь спать спокойно — тебя оберегут. А об ней нечего беспокоиться: сунул полтинник — и друг.
— Не то в шею тебе сунут.
— Да гноить по участкам зачнут...
Народ разбился кучками, кусая опять подсолнухи и беседуя о своем. Захар суетился, собирая подписи и деньги. Мещане косились с видом, что их не касается, и сплевывали шелуху. Купцы строго доставали кошельки. Железнодорожники шли к себе толпой, во все горло горланя песню, задевая девок и баб, а те, отворачиваясь и блестя глазами, кокетливо бросали:
— У-у, окаянные!..
За лавками били босяка, и он кричал:
— Ой, братцы, только по заду не бейте, зад у меня отбитый... Не трожьте по животу, операцию делал... Ой-ой, не бейте по ногам, ногами не владаю...
Солнце село.
Церковь стали строить со следующей весны.
Приехал поп, не старый, с внимательными, примечающими глазами. Осмотрел место, выбранное под церковь, недалеко от кладбища, и нахмурился.
— Негоже.
Место указал на базаре. Выборные возражали:
— Негоже и здесь, — грязь, гомон, божба, пьянство, драки, сквернословие, а тут храм, не лепо.
— Лепо, — не слушая, говорил поп, — храм божий нуждается в содержании, каждый на базар приедет, перекрестится, свечку поставит, а к кладбищу кто заглянет?
Построили церковь на базаре.
Мало туда кто заглядывал — некогда; только старушонки привычными фигурами темнели у вечерни. Ставили свечи, и толпился народ лишь в базарные дни.
Зато на страстной — яблоку упасть негде, и причт с ног валится. Как в конце усталого, изматывающего рабочего дня каждый бежал в трактир выпить сотку, чтоб прочахла голова и опять с утра потянуть лямку, так на страстной все бросали и бежали отговеться, поисповедоваться, причаститься, чтоб с облегчением начать ту же темную жизнь, — опять ругаться, мошенничать, бить жену и детей, пить и до одурения работать, а в церкви лишь темнели божьи старушки и скудно мерцали редкие свечи.
Но к церкви своей привыкли. Привыкли слушать и считать, как бьют с колокольни часы. Колокольня была маленькая, приземистая, но колокола горластые, и далеко слышно по степи.
Сторож Ефим, правда, звонил по собственной системе, но к нему применились. Чтоб уложить поселок и самому пораньше завалиться, он к вечеру нагонял, отбивая часы через полчаса, а то и раньше. Зато ночью растягивал и бил через два, три часа, когда проснется от ломоты ног, выйдет из сторожки, поглядит на звездное небо, долго чешет спину и потом подергает за веревку, сколько покажется.
Мещане выправляли его систему.
— Слышь, восемь пробило.
— Какие восемь? Семь часов.
— Где же семь? На два дуба еще солнце-то. Откинь два и выйдет шесть.
— Дожж был ночью, вот бьет шибче — ноги ломят, хочет раньше лечь.
Привыкли к тревожному, мятущемуся над поселком ночному набату, когда все светло кровавым, вздрагивающим светом и застилает багровый дым, несутся по ветру горящие галки, несмолкающие ночные человеческие голоса, носятся, как безумные, ярко-розовые голуби, а колокол, будя людей и тревогу, поет свое в мрачной веселости.
В зимние бураны на поселок приходила степь, злая и белая, как смерть. Ночью плотнее притягивали двери и ставни и пораньше закрывали трубы крепко разогревшихся печей.
— О-хо-хо, буран пришел, — говорили, крестясь...
А он выл в трубе, гудел в крышах, безумно визжал в ставнях и просился человеческим голосом через стены.
В такие ночи улицы вымирали. Широкой белеющей мантией веяла мертвая жизнь, в которой — свои законы, и ходила по улицам, по площадям, через дома и заборы, холодно погребая растущими сугробами, а в мутно-белесой вьющейся мгле, в потерянных голосах мятущейся ночи, то утопая, то всплывая, отчетливо несутся мерные удары колокола.
Бабы, пригревшиеся в теплых постелях, прислушиваются к этому неустанному незасыпающему медному зову, носящемуся в бурном снежном море, крестятся.
— Сохрани и помилуй, господи, путешествующих, блудящих!..
Хромой Ефим в такие ночи — первый человек на поселке и — горд: целую ночь, то утопая и захлебываясь, то вырастая, уносимый разорванными клочьями, целую ночь зовет в безбрежной, мертво и грозно разыгравшейся степи медный колокол.
А наутро, когда стихнет буран и заваленная сугробами степь, мертво смеясь, засверкает под солнцем, в поселок везут замерзших в санях с лошадьми. Лица и глаза у них — белые, руки и шеи странно искривлены, а тело крепкое и звонкое, как лед. Подбирают их в сугробах на окраинах, возле садов, возле кладбища, возле землянок. И Ефим гордо говорит: