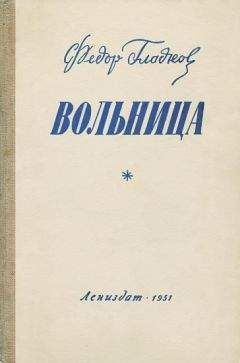— Ты, Федя, как Егорий храбрый, на змея налетел… Ты не гляди, что Иван Шустов клопёнком в щёлке таится. Он сильнее да страшнее всех нас и всего села. Аль не правда? Так ты бы, Иван Шустов, не обижался, а на чужой кулак свой показал бы. Это чего ты рожу‑то под Лап раскрасил? Чай, ты не пугало… От тебя, как от чёрта, все на экзаменах‑то разбегутся.
Шустёнок мстительно огрызнулся:
— А я напоказ всем пойду: вот, мол, как меня Федька–кулугур избил. За что избил? За то… за кулугурсв, за то, что батюшка им житья не дяёт… А за что учительница его привечает? За то, что он у нее барбосик…
Я опять рванулся к нему с кулаками.
— Аль мало я тебе рожу бил?! — крикнул я до боли в горле. — Не трог Елену Григорьевну, мокрица!
Меня оттолкнул назад Кузярь, повалил на солому и зашептал надсадно:
— Брось, дурак, кипятиться. Отколотил его — и хватит.
Мне уже не милы были зелёные пахучие поля, и мазоронки в голубом небе, и хрустальные волны марева. Весёлая возня, крики и смех парнишек оборвались.
Славкико — базарное село, окружённое со всех сторон берёзовыми рощицами, зарослями орешника и молодого дубняка. Избы по широкой и длинной улице — старинные, сосновые, крытые тёсом, с резными карнизами и наличниками. Каждое воскресенье здесь, на Площади, открывался базар, на который съезжались мужики со всей округи, а весной и осенью устраивалась большая и нарядная ярмарка с балаганами, каруселями, петрушками и райками. Сюда привозили из города и из разных сёл всякие товары: скобяные, мануфактурные, бакалейные, кустарные— колёса, решёта, лопаты, расписные дуги, верёвки, сбрую, кожевенные изделия. Я был здесь на осенней ярмарке с отцом, и она осталась у меня в памяти навсегда. Долго мне мерещились задранные кверху густой щетиной оглобли, вихри разноцветных ситцев, платков и лент, сверкающий полёт каруселей, намазанные лица рыжих клоунов в пёстрых штанах и рубахах пузырями, с войлочными колпаками на затылке, пряные запахи сапожной кожи, дешёвых конфет и конского навоза. Тут же впервые я увидел мордовок в белых шушпанах с красным тканьём на рукавах и на груди и в странных рогатых кичках, украшенных узорчатой выкладью. Говорили они на певучем языке, который похож был на детский лепет. Назойливо и долго держалась в голове крикливая песня мордовок:
Перикала кудыня,
Кудынисень бабиня…
Мы остановились на широкой площади, у церковной ограды, против деревянной школы с большими окнами. В разных местах на примятой луке стояло ещё несколько телег, а около них толпились парнишки и девчонки, которые тоже, должно быть, приехали на экзамен. Одни из них были в домотканных рубашках, в лаптях, а другие, как мы, одеты в фабричный ситец и сарпинку и в сапогах. Я уже по этой одёже знал, что лапотники крикливо акали, а те, кто форсил в сапогах и сарпинке, сочно окали.
Елена Григорьевна слетела с телеги и подбежала к нам с широко открытыми от изумления и гнева глазами. Она сразу же схватила меня за руки.
— За что ты Шустова бил, Федя? Что с тобой случилось? Совсем от тебя этого нельзя было ожидать.
Я встретил холодные, строгие глаза Елены Григорьевны и с обидой надулся.
— Ну, говори же, Федя! Чего же ты молчишь? Как же не стыдно бить товарища, да ещё в такой день, по дороге на экзамен! Боже мой! Да у Шустова всё лицо в крови!
Кузярь лукаво смотрел и на учительницу и на меня и посмеивался.
— Да уж винись, Федюк, куда ни шло! Чай, мы все знаем, за что ты Шустёнку нос расквасил… — поддразнивал он меня, и в его смеющемся голосе я слышал поощрение: валяй, мол, режь правду–матку, а мы за тебя горой. Но я молчал, низко опустив голову: я не хотел ябедничать, моя мальчишечья гордость не позволяла мне оправдываться. Я не раскаивался в своей расправе над Шустёнком, и мне не было стыдно за этот свой поступок: я чувствовал, что доблестно защитил Елену Григорьевну, и, если бы Шустёнок и сейчас стал оскорблять её, я бросился бы на него с таким же бурным негодованием. Шустёнок стоял, опираясь о телегу, с чёрными мазками высохшей крови на щеках и на руках. Он, как затравленный, жалобно смотрел на круглую каменную колокольню, притворяясь несчастненьким. Ясно было, что он старался обратить на себя внимание сторонних ребятишек, которые действительно подходили к нашей телеге и с удивлённым состраданием пристально глядели на него.
Кузярь не вытерпел и, помогая себе руками, стал рассказывать, из‑за чего и как у нас произошла драка. Он загорелся, глаза его вспыхивали возмущением и смехом, а худенькое тело его порывисто бросалось в разные стороны, изображая, как я тузил Шустёнка.
— Как Шустёнок‑то начал охалить вас, тут Федяшка и напал на него… «Не моги, — говорит, — Елену Григорьевну бесславить!»
— Ну, Федя!.. Разве так можно?.. — засовестила меня Елена Григорьевна, качая головой. — Надо было пристыдить его, доказать, что он оскорбляет нас, а ты вместо этого полез на товарища с кулаками. А в кулаках ведь правды нет.
— Он — не товарищ мне, — с ненавистью огрызнулся я. — Ежели у него отец сотский да у попа он наушник, так думает, что на него и управы нет? Пускай помнит, что за дурную славу про вас сразу на кулаки напорется.
Елена Григорьевна смотрела на меня с сердитым любопытством и молча прощупывала изумлёнными глазами и голову мою, и лицо, и плечи, словно впервые обнаружила во мне что‑то неожиданно новое.
— Бороться за честь и правду — прекрасно. Но нельзя бороться во вред себе и другим.
Она мягко взяла меня за плечи и повернула к себе.
— Ну‑ка, взгляни на меня, Федя. — И она тихонько, как будто стыдливо, засмеялась. На её бархатной безрукавке переливался искрами бисер, словно и он смеялся вместе с нею.
Я поднял лицо и храбро уставился на неё, но не утерпел — схватил её бледную руку в синих жилках и приложился к ней щекою.
Елена Григорьевна прошла к Шустёнку, строго сказала ему что‑то, показывая на сторонних парнишек, взяла его за плечо и повела к школе.
В просторном и светлом классе с географическими картами на белых стенах и такими же картинами, как и у нас в школе, — огнедышащая гора и песчаная пустыня с верблюдами — на партах расселись пошкольно человек тридцать. Перед каждым из нас лежал лист разлинованной бумаги.
К моему удивлению, рядом со мной сел Шустёнок, умытый и причёсанный. Я забунтовал и толчками сбросил его с парты. Он заскулил и трусливо попятился назад.
— А где я сидеть‑то буду? И так меня все прогоняют…
Кузярь сидел позади меня с Гараськой и озорно смеялся:
— Это он нарочно пристроился к тебе, чтобы сдувать…
Я озлился на него:
— А ты чего от меня удрал? Это по–товарищески?
Он притворился обиженным, но глаза его сверкали от смеха.
— Да я думал, что ты с ним помирился и сам с ним сел. Ну, мы и стакнулись с Гараськой.
А Гараська наклонился над партой и задыхался от хохота.
Я хотел позвать на помощь Елену Григорьевну, но она стояла с учителями у стола и взволнованно разговаривала с ними, не оглядываясь на нас. Миколька сидел вместе с Петькой–кузнецом, серьёзный, озабоченный, и как будто не замечал моего бунта. Петька недовольно хмурился: ему не нравилась наша возня. Я подвинулся к краю парты, где в проходе стоял Шустёнок, и яростно гнал его:
— Пошёл отсюда к чёрту! Всё равно не пущу. Выродок ты и недруг. Я подлецов только бью.
Сторонние парнишки в другом ряду и впереди нас испуганно и сердито грозили нам пальцами и шептали:
— Смирно сидите!.. Не бесчинничайте!..
Шустёнок вдруг заныл среди общей тишины:
— Да вот он не пускает… А где мне сидеть‑то?. Места‑то нигде нет…
Учителя повернулись в нашу сторону, а Елена Григорьевна в тревоге бросилась к нам, красная от смущения.
— Что с вами происходит, ребятки? Почему вы сидите не так, как у себя в школе?
— Федька не пускает меня, вытолкнул… — захныкал Шустёнок. — И все гонят… Чай, мне не на полу сидеть…
Я с ненавистью вскрикнул:
— Не буду сидеть с ним, с выродком… Лучше с чужими сяду.
— Но почему вышла такая путаница?.. Ах, какая досада! Не досмотрела, понадеялась… Разве можно в такой день и такой час озоровать? Ну‑ка, живо! Пересядьте, как у себя в школе…
Но она не успела навести порядок: в этот момент позвали её к инспектору. К нам подошёл Мил Милыч и молча положил руку на плечо Шустёнка, а другой рукой отодвинул меня от края парты Шустёнок впрыгнул в парту и впился в неё обеими руками.
А когда отошёл Мил Милыч, я обернулся к Кузярю и потребовал, чтобы он сел со мною, но он сердито оборвал меня:
— Сиди, не шуми, а то выпроводят из класса...
Я в отчаянии выпалил:
— Ну, значит ты — не товарищ, а изменщик.
— Я — изменщик? — прошипел он угрожающе. — Погоди, мы с тобой на перемене посчитаемся… — И неожиданно для меня засмеялся. — Так посчитаемся, чго вволю нахохочемся…