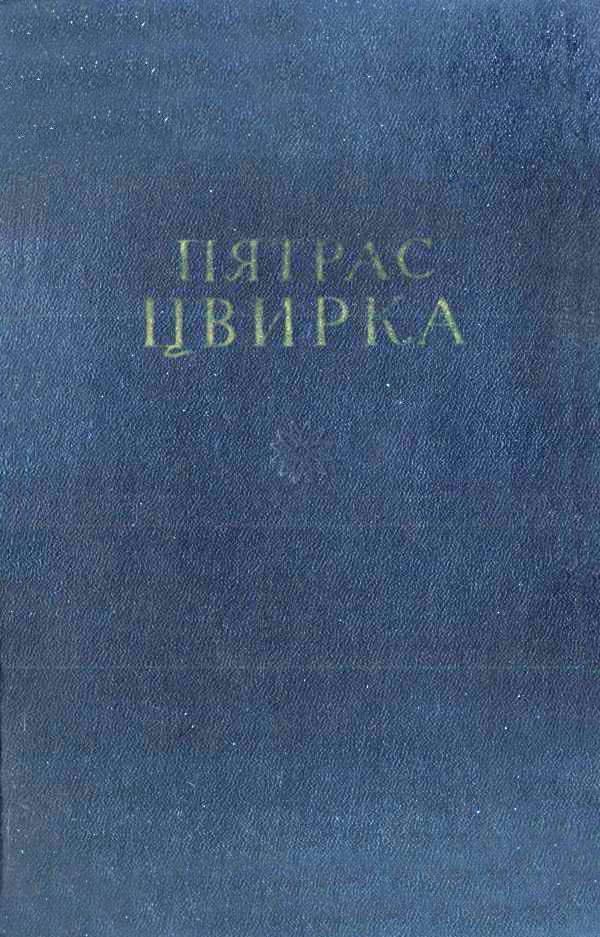склонившуюся у лучины: она штопала, либо стирала наше тряпье.
Теперь, как только мать оставалась дома, немедленно появлялся дядя Мотеюс. Шевеля оледенелыми усами и потирая замерзшие руки, он бормотал:
— Что теперь будет? Что теперь будет? Пропадут все птицы и звери.
Он носил отцовский полушубок и шапку, а по воскресеньям одалживал оставшуюся после отца бритву. Вымолить ее совсем у матери ему не удавалось. Мать решила, что бритва должна достаться кому-нибудь из сыновей.
Понюхав из желтой коробочки табаку и начихавшись хорошенько, старик всегда принимался рассказывать что-нибудь такое, чтобы удивить мать.
С некоторых пор, однако, дядя стал вести с матерью какие-то таинственные, непонятные для нас беседы. Несмотря на то, что я был любопытен, мне никак не удавалось понять, о чем это они шепчутся. Бывало, не успеет дядя переступить порог, как мать, — чего раньше не бывало, — посадит его в уголок потеплее, наскребет остатки завтрака или ужина и, присев рядом, пытливо заглядывая ему в глаза, спрашивает:
— Ну, как?
— Да вот того, все упирается, леший! — отвечает дядя, — боится этого, твоей мелюзги. Говорит, теперь-то ничего, а потом, мол, натерпишься от них горя…
— А так бы ему подошло? — допытывается мать, еще ближе подвигаясь к дяде.
— Ну, да он, того, ничего. Он бы всеми четырьмя уцепился… Все бы было ладно…
— А что он еще говорил? — расспрашивала мать.
— Что ему еще говорить? В это воскресенье его не будет, он, видишь, у мотора работает, где молотят, — механиком он.
— Механиком? — словно удивляется мать.
— Вот тебе и на, а ты разве не знала? Давно механиком. О, у парня голова на плечах есть!
— И ни так, ни эдак не сказал?
— На той неделе видно будет. Вот разопьем у Шлемки бутылочку и начистоту: нет — так нет, да — так да…
Когда дядя уходил, мать, провожая его, поглаживала его руку и все упрашивала:
— Я уж для тебя постараюсь, Мотеюс… Как-нибудь, уж как-нибудь уговори. Ведь не для себя я… Не грех у меня на уме, только эти пятеро ртов…
Эти таинственные разговоры шопотом, недомолвки, намеки, неясные и замысловатые дядины рассуждения все учащались. Через несколько дней Мотеюс опять завернул к нам, потный, красный, ухарски сдвинув шапку на затылок.
— Значит, вот — пеки пироги! — объявил он, как-то подобравшись всем телом, и довольная, хитрая усмешка тронула его усы.
— Да что ты, да ты врешь? — растерянно вскочила мать, выпуская из рук недочищенную картофелину. С минуту она так и стояла с открытым, просветлевшим лицом, удивленная и смущенная, и вдруг закрыла лицо фартуком, словно подавляя смех.
— Теперь, значит, того! — развел руками дядя. — Говорю же тебе. Долго мозговал — и так, и эдак. Боюсь, слышь… Кабы двое или трое, а то ведь пятеро. Трудно, слышь, будет мне их поднять. Наконец распили мы еще бутылочку, и он, слышь: «Э, была не была — иду!»
Но мать уже не слушала дяди. Она медленно опустилась на лавку, голова ее, как подрубленная, склонилась на грудь, и она стала всхлипывать.
— Ну, ну, ну, начнешь теперь! Зеленую руту [12]вспомнила. Тащи-ка ты мне лучше за это мериканку.
«Мериканкой» дядя называл бритву, когда-то унаследованную отцом от брата, уехавшего в Америку. Эта на взгляд ничтожная вещь все еще не давала старому покоя.
Пристыженная мать перестала плакать, вытерла глаза, пригладила волосы и, шмыгая носом, сдерживаясь, сказала:
— Только их мне жалко… Как ни прикидывай, чужой — все чужой. Не обнимет, как родной, не приголубит… Пусть хоть золотой будет, а отцовской любви им уж не видать.
Уходя, дядя унес и бритву, на этот раз безвозвратно, так как мать, подавая ее, сказала:
— Бери себе на здоровье, дай бог, Мотеюс, чтобы твоя рука была счастливая, чтобы не прибавилось мне еще новых слез…
Однажды ночью, проснувшись, я страшно удивился, увидев возле топившейся печи мать рядом с незнакомым мужчиной. Они сидели на лавке, почти прислонившись друг к другу, устремив глаза на огонь, красные отблески которого то играли на их задумчивых лицах, то блуждали по стенам.
Временами, когда огонь пригасал, из углов выползал мрак, головы их словно сливались в одну, но через некоторое время, когда пламя разгоралось, они опять разъединялись. У мужчины было продолговатое бритое лицо, с глубокими впадинами глаз, я его до сих пор никогда не видел. Его крупные, непринужденным движением сложенные руки свисали между колен. Наконец, не отрывая взгляда от огня, он отозвался сдавленным голосом:
— Приведем все в порядок, пригоним одно к одному и как-нибудь да проживем…
Мать еще ближе придвинулась к незнакомцу, погладила его руки, колени, потом, глубоко вздохнув, положила голову ему на плечо.
— Ма-а-ама! — не знаю почему, отчаянно вырвалось у меня из самой души. Тоска, непонятный стыд, ревность сдавили мне грудь.
— Что ты, мой маленький? — поднялась мать и кинулась меня обнимать. — Поди ко мне, мой воробушек, что это тебе приснилось?
Она тотчас же, словно неокрепшего цыпленка, поставила меня у печки. Глаза незнакомца встретились с моими. Он был некрасивый, рябой.
— Йонук, поздоровайся же! — подталкивая меня вперед, говорила мать. — Это твой отец… Он будет добрый, любить тебя будет…
При этих словах я быстро вырвался из рук матери и пустился назад. Слезы душили меня. Пока я добежал до братьев, тоже проснувшихся и уставившихся на незнакомца, я чувствовал себя маленьким, заброшенным и одним-одинешеньким на свете.
И сегодня я почему-то вспомнил обо всем этом, сидя у очага.
1938
Она вставала раньше всех, выметала избу, готовила завтрак, и так прохлопотав весь день дотемна, последней в деревне гасила огонь. Поздно ночью, прикрутив немного фитиль в лампе и собираясь только на минуточку прикорнуть на лавке, девушка засыпала крепким сном с клубком ниток или недочищенной картофелиной в руках.
По большим праздникам Оне выдавалась возможность поспать подольше, а потом убрать свой уголок, который хозяева предоставили ей на черной половине избы. Здесь, подле груды решет, хозяйственной утвари и рыболовных снастей, стояла и ее сколоченная из досок кровать. На прибитом к стене коврике висело ее рукоделие, сохранившееся еще с того времени, когда она была пастушкой: сумочка для всяких головных украшений, другая — в форме конверта, с вышитым на нем голубком. Между ними помещалась выцветшая, плохонькая фотография в рамке, оклеенной еловыми шишками: между двух девушек, на фоне замка, изображенного посреди высоких развесистых деревьев, и канала с плавающими по нему лебедями, стояла Она, простоволосая, с букетиком цветов в руках. В ногах кровати стоял высокий комод, покрытый белой салфеткой.