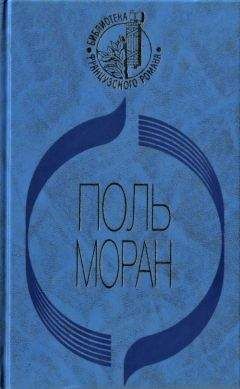— А кто бы не позавидовал такому великолепному наплевательству к своему прошлому! Может быть, не поверишь, но ему абсолютно наплевать на нас с Викой, нас просто не существует. Ну, что о нем! Так вот я, видать, его антипод, мне хотелось воздвигнуть свой идеал — семью. Бедная Наташка этого не вынесла.
— Ты слишком долго прособирался, — сказал я. — Да ведь ты об этом мечтал только в перерывах между рытьем котлована и подливкой колонн.
Он засмеялся:
— Вот потому-то, видать, и не корю Наташку. И продолжаю мечтать! О детях, племянниках, внуках. Я буду их попечителем, я выращу целое племя горожан, это будет клан, преогромный род закоренелых урбанистов, но… с нежной душой, с любовью к захудалой тетушке, к маленькому несмышленому родичу!
Он умел придавать собственным мечтаниям, заботам, даже бедам юмористический оттенок, не угнетая тебя унынием и беспросветностью, и тем искренней, достоверней были его слова. Вообще я с радостью убеждался в том, что перерыв в наших отношениях не развел нас слишком далеко.
Однажды он позвал меня в детский плавательный бассейн.
— В плавательный бассейн?..
— Ты не удивляйся, — сказал он. — Габриэлян водит туда сына. Сын плавает, а он наблюдает за ним с антресолей, вокруг него братва… вообще, там, где появляется Габриэлян, возникает уют, какой-то салонный, что ли, порядок, воздух электризуется — словом, то Габриэлян.
И вот мы идем между рядами теплых пахучих сосен, зрение мое как бы оживает, обостряется среди зелени, в груди мягко и легко. Мы входим в бассейн и поднимаемся на антресоли. Я уже издали вижу Делю. Внизу яркость и звучность воды, дробящийся детский смех, и все это взлетает, парит и, наконец, достигает ее головки и мягко, грустно витает над нею. Наши шаги по кафелю звучат слишком громко, Деля оглядывается и с улыбкой щурится на нас.
— Браво, — сказала она, — уж вас, да еще вместе, я не ждала.
Ее глаза мягко и утешительно глянули на меня. В эту минуту я почувствовал себя так, будто не было разделявших нас лет, а все по-прежнему, все только начинается, почкуется в нежной незащищенности, еще и в помине нет угрозы той нашей последней встречи, когда я сам же и послал ее утешить бедного Биляла.
Мы не заметили, как Алеша оставил нас.
…Она рассказывала о прошлом своем житье, о чем не только я, но и те, кто жил вблизи, не имели ни малейшего понятия.
Дедовская деревянная школа, святое волнение юной учительницы, озарения зрелости, и первое осознание скорбных трудов дедушки, и чувство причащенности добрым деяниям, и сомнения, и страх перед суетой сует.
— Я боялась безверия, — сказала она, — я боялась однажды… уж не знаю в какую страшную минуту невзлюбить свой труд. Но больше всего я боялась оправдать это жизненными неурядицами.
Я не произнес ни одного слова, пока она говорила, и тут она сказала:
— А ты не спрашиваешь, почему я вышла замуж за Биляла?
— Нет, — сказал я, — потому что ты не сумеешь ответить.
— Самое обидное в том, что мне не в чем упрекнуть его. Точнее, может быть, я не знаю, в чем его можно упрекнуть.
«Это печально, — подумал я, — для него печально, А впрочем, ему теперь все равно».
— Я никогда не могла понять, за что они меня, и Биляла тоже, преследуют. Не могла я этого понять! А теперь и не стараюсь. Нет, вру, все-таки хотела бы понять.
У вас разные мерки к вещам и понятиям, подумал я. Что интересно и ценно для них, для тебя не представляет ни интереса, ни ценности.
— Идем отсюда, — сказала Деля, — здесь сырой воздух, голова у меня начинает гудеть.
Мы прошли узким коридором, в котором плавала сумеречная банная сырость, спустились на первый этаж и вышли на широкое каменное крыльцо. Напротив, на поляне, стояли Габриэлян с сынишкой и Салтыков.
— Я знаю очень тихую улицу, — сказал я, — называется она Лунная.
— Где эта улица?
— В Никольском поселке.
Гремящий город затихал в тебе, стоило очутиться в Никольском поселке, затихал, терялся в глухих уголках памяти. Но автономия поселка была обманчива, иллюзорна; близко стоял завод, Никольские ходили туда пешком, близко проходили городские магистрали и рукой подать было до вокзала. Поселок был порождением Переселенки, Переселенческого пункта, точнее, Переселенки и завода «Столль и К°». Завод сейчас носил имя революционера Абалакова, а Переселенка так и называлась Переселенкой — длинные бревенчатые дома с аляповатыми надстройками на фасаде и по бокам. Курские, тамбовские, воронежские, казанские и прочие-прочие вываливались из поездов, шли на Переселенку, набирались сил перед дорогой в сибирские пространства. Уходили они оснащенные плугами столлевского завода. Иные оставались в Челябинске и строились в Никольском поселке.
Сюда любил хаживать Булатов. Здесь когда-то он жил с отцом и матерью. Улица, рассказывал он, называлась Кладбищенская, потом ее переименовали в улицу Профинтерна. Ни в одном другом уголке города я не встречал таких интересных названий, причем само по себе отдельное название не представляло ничего особенного, но вместе — улица Спартака, Испанская (в тридцатые годы здесь жили испанцы), Грейдерная, рабочего директора Малашкевича, Плужная и Лунная, Бульдозерная и Минометная — вот вешки многотрудной истории, нелегкого житья-бытья, великого обновления; даже Кладбищенская, в соседстве с другими названиями, не отдавала унынием — ведь и вправду улица вела к кладбищу, расположенному в сосновом лесу.
Поселковые жили немалыми семьями по той причине, что и не спешили разделиться, и жильем завод не был богат; держали коров, кур и гусей, сажали картошку и овощи на широком пространстве за поселком. Немощеными улочками, густыми палисадниками, утиным выводком, плывущим в пыли переулочка, поселок напоминал мне городок. Но суть сходства была не во внешних приметах, это я позже понял, — а в самих обитателях, чьи истоки были в деревне. Но деревенского, как это ни парадоксально, в обитателях поселка сохранилось больше: ведь завод, рабочее содружество являло собой тот же мир, ту же общину единомышленников, в то время как жители городка были большей частью единоличники — все эти бывшие извозчики, пимокаты, шапочники, гончары.
Мы шли довольно хаотическим маршрутом, то пускаясь вслед пылящему автогрейдеру, только что выпущенному из заводских ворот, то заворачивая к домику с особенно пышным палисадником — посидеть в тени на широкой скамейке, то вскакивали и шли дальше — ведь должны же были мы найти наконец улицу Лунную. И когда мы ее действительно нашли, то не сомневались в правомерности ее наименования; не трудно было вообразить, какой восхитительный лунный поток течет по ночам в этом широком, просторном русле.
Поселок напоминал нам о том, что жизнь штука давняя и долговечная и, пожалуй, знала заботы похлеще, чем наши.
Мы продвигались молча. Разговор о том, о сем казался необязательным, а главное вроде сказалось. Я, наверное, слово в слово мог бы повторить все то, что она успела рассказать, пока мы искали улицу Лунную.
«…Однажды я поймала себя на странном, почти фантастическом чувстве, будто не только мои мечтания и помыслы, но и сам предмет, география, не имеют никаких связей с тем клочком земной поверхности, с ее природой, народом, возможными ресурсами в ее глубине, будто все это отчленено от земли, от мира. Но моя страховидная фантазия, однако, имела под собой вполне реальную почву: для моих тамошних учеников география все то, что не их город, не их земля, в конце концов не они сами. Они с интересом могли слушать о пустынях и вечных льдах, горах и прериях, но городок с его растительностью, тварями, жителями не поддавался, точнее, как бы не нуждался в познавании, он был слишком веществен, чтобы считаться с его реальностью.
Но это было еще не самое удивительное в моем невеселом открытии. Билял вдруг напомнил мне моих учеников! Он был счастлив, оказавшись в городке. Он рассказывал мне историю своей любви к девушке из заповедника, я видела — радость так и переполняет его; боже мой, думала я, ведь он, наверное, до сих пор любит ее. А он даже не подозревал о моей обиде. Я немного позже поняла, в чем тут дело. Ведь все, чем он был так счастлив, не имело никакой вещественной связи с настоящим, сущим, так что и обижаться-то не стоило. Вся эта история имела для него всего лишь эмоциональный смысл; Билял, я уверена, даже тогда, знаясь с Катей, так, кажется, звали девушку, — даже тогда он не стремился к реальным отношениям, вся эта история не нуждалась в подкреплении… ну, не знаю, обладанием, что ли…
Его любила моя мама, да полагаю, что и сейчас любит. Она вообще склонна противопоставлять задор и самоотречение своей юности нынешнему рационализму молодых людей. Упоенность прошлым мешает ей быть проницательной. Она словно забыла, что ее-то юность была прежде всего деятельна, а Билял лишь мечтатель…