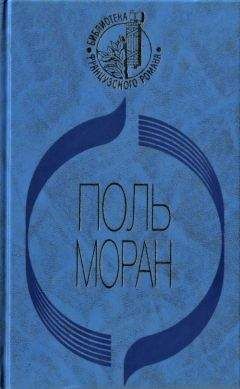Я любила дедовскую школу. Зимой в ней бродят чистые избяные запахи, летом двор зарастает густой гусиной травкой, расцветает сирень, заборы горячо пахнут. Мама до сих пор ходит туда: посидеть в классах, походить по двору и вернуться домой с огромным, прямо-таки кипящим букетом сирени.
Школа многое говорит ее сердцу, каждым фибром мама ощущает уже невозвратное, и это помогает ей сохранять в настоящем покой и равновесие. Но меня в последнее время все больше пугал какой-то вчерашний уют, воспоминания, витающие над этим ветхим бревенчатым зданием. Дело-то в том, что мне это было так дорого, так близко… не знаю, но я чувствовала, что и сама, как мама, ухожу куда-то назад, в прошлое, почти не оставляя места настоящему. Впрочем, может быть, школа тут была и ни при чем. Знаешь, мечтательность и чувствительность таких, как Билял, заразительна. Она чиста, возвышенна, она — тебе, может быть, смешно, — но она как религия. А правда, что Билял в детстве был богобоязненным и примерным мальчиком?..»
Попрощавшись с Делей, я вышел из подъезда. Мимо тихонько прошуршало такси. Но я пропустил машину, закурил и медленно двинулся со двора. Потом я перешел улочку и вошел в другой двор — здесь, пожалуй, на километр простирались дворы, прежде чем я вышел бы на проспект. За столиками, где по вечерам и воскресеньям стучат в домино, на краешках песочных ящиков, где резвятся дети, сейчас располагалась ребятня от пятнадцати до восемнадцати, их рой жужжал басовитыми голосками, девчоночьими сопрано, огоньки сигарет сыпали искрами, заявляя о пустом щегольстве юнцов. От них веяло необъяснимой враждебностью, но, может быть, враждебность исходила от меня и ко мне же откатывалась, как эхо от глухой стены.
А у меня мог бы быть братишка, подобный этим паренькам, подумал я, и болезненное сожаление затронуло мою душу, и враждебность исчезла.
Дворы кончились, я вышел прямо к трамвайной остановке. Мне не надо было ехать, но я подошел к толпе, ожидающей трамвай. Это были рабочие, иные возвращались с работы и делали теперь пересадку, иные ехали в ночную смену. Они молчали, а если разговаривали, то так тихо, как могут разговаривать в эту позднюю пору трезвые, не праздные люди, оставившие возбуждение там, на заводе, или утихомиренные сном перед долгим ночным бдением.
Подошел трамвай, битком набитый, но ожидающие втиснулись в него все до единого без суеты, но поспешно. Я остался один, огляделся с тревожным чувством, а затем перебежал улицу и свернул в проулок…
Был одиннадцатый час, когда я пришел домой. Мама уже спала. Отчим, кажется, бодрствовал: в щель из-под его двери прорезывался свет. Я потоптался возле порога с какою-то ребячливой настырностью, пока не услышал: «Входи, входи». Я вошел и произнес шепотом:
— Добрый вечер, — так тихо, точно боялся его разбудить. Это уж было слишком: он и без того понял, как я учтив.
Он откинулся от стола, отвернув от себя абажур настольной лампы. В руке он вертел авторучку и как будто старался обратить на нее мое внимание.
— Что ты пишешь? — спросил я, садясь в кресло.
— Статью, — гордо сказал он. — В нашу многотиражку.
— Почему не нам?
— Многотиражку читают в министерстве, а вашу вряд ли. Транспортировка в наш век должна стать неотъемлемой частью технологического процесса, в наш век транспорт перестает быть вспомогательным элементом производства, он существенно влияет на всю структуру производства. Это качественно новый фактор. — Прочитав, он вдруг смутился. — Слог у меня никудышный. Впрочем, поймут. — Он отложил рукопись, отпил из стакана остывший чай. — Вот сколько помню себя на заводе, страдал от замусоренности цехов и заводского двора, от беспорядков на складах. Будто сажусь работать, а на моем столе пыль и колбасная кожура. И всегда хотелось заняться самому, но — то война, то работы по горло, да и не мое вроде бы дело. Ну, а теперь грех не взяться. Улучшаем технологию, бьемся над себестоимостью, а транспортировка как во времена царя Гороха. Склады вроде старых лабазов, в которых купчики укладывали рядком ящики, мешки, тюки с мануфактурой. Вот я составил карты рабочих мест, вот список рабочих, занятых погрузкой и разгрузкой, вот справка об автотранспортных расходах за прошлый год. Затраты — не дай бог! Заводу нужен автоматически управляемый склад, но такой склад потребует качественно новой тары… Скучно? — поинтересовался он мягко. — Склады, тара… ладно, не буду. А с этой тарой ох и намучился я в войну! Военпреды досаждали. Глянет на ящик, увидит сучок — р-раз молотком и вышибет, Я говорю: это же не сухостойный, а здоровый сучок, какого черта вышибаете? Плуги мои ржавели, чертежи растаскивались фезеушниками, а я строил тарный цех, ездил в леспромхозы выколачивать доски. Однажды вымотался жутко, от голода еле на ногах держусь. Зашел в ресторан в Свердловске, Взял порцию манной каши, чаю. Съел в один момент и только тут почувствовал, как есть хочу. А мысли самые мрачные. Вот, думаю, занимаюсь, то ящиками для снарядов, то рабочей столовой, конструкции плугов побоку, на фронт путь заказан. С отчаяния, наверно, осмелился спросить еще порцию каши. Официантка принесла. Съел — она еще несет. А я настолько смутился, что не сумел с достоинством отказаться. А когда съел и третью порцию, повеселел, думаю: а не будь моих досок, не из чего было бы ящики делать и снаряды отправлять. Самое большое — через год начнем плуги делать, ведь землю надо пахать! — Он засмеялся, воспоминания оживили его.
Я улыбнулся ему открыто, понимающе. Мое замкнутое детство, моя ребячливая юность сменились зрелостью, и наконец-то мне выпала радость общения с отчимом, радость взаимопонимания. Сейчас я был гораздо чувствительнее, зорче, да и отзывчивей, чем в детстве. Мои ровесники давно уже оставили своих седовласых родителей и лишь изредка награждали их наездами в гости, телефонными звонками, кой-какими подарками, раз и навсегда лишив их права попенять, пожурить, посоветовать. Их тяготило родительское внимание — я же был рад ему.
Мое молчание, боюсь, вызвало в отчиме беспокойные подозрения. Он, как бы устыдившись, стал сгребать в ящик стола свои рукописи. Потом заговорил с преувеличенной досадой:
— Ужасно, ужасно все меняется, когда человек оставляет дело, которым занимался всю жизнь! Он и сам чувствует, как неотвратимо глупеет, и находит себе массу ненужных занятий.
— Ты умный старик, — сказал я искренно, но сдабривая свою речь малой иронией. — Ты умный старик, и тебе незачем бичевать себя.
Он нахмурился, но я-то видел: он пытается скрыть истинные чувства, он рад моим словам! Он не долго выдерживал притворство, его глаза стали лукавыми.
— Я, пожалуй, с тобой соглашусь. — Он засмеялся, обрадовавшись, что отринул всякое притворство. Вот чего не мог он допустить никогда — ни грана лжи даже ради достоинства и чести.
Можно неплохо прожить, перенимая привычки окружающих тебя людей, подчиняясь порядкам меняющейся среды, не пытаясь нарушить ничего в твоем окружении и принимая на веру открытые кем-то истины. Но есть счастливчики, ищущие истину в себе, меряющие жизнь только собственной мерой. Все чаще приходят мне мысли о городке, о его людях…
— Все чаще приходят мне мысли о городке, о его людях, — сказал я. — И в первую очередь о дедушке Хемете. Как просто, как здраво они жили, каким нравственным здоровьем обладали и как сильно в них спокойное чувство достоинства. Почему оно не передалось, например, мне? У кого перенял я способность к притворству?..
Отчим долго не отвечал, и когда я уже отчаялся ждать, он заговорил медленно, глуховато, точно и сам еще сомневаясь. Он говорил о Хемете. Да, говорил он, Хемет достоин уважения, недаром о нем в городе ходят легенды. Но разве ты не видишь, что Хемет весь в минувшем, в затвердевшей скорлупе вчерашнего своего бытия, он закоснел не только в своей любви к лошадям, но и в понимании свободы, необходимой человеку. Где теперь Хемет? На проселке, в повозке, в то время как мимо промчались сонмы моторов, оглушив и обвеяв пылью великого движения.
А дедушка Ясави? Я ценю людей, преданных страсти. Но его страсти давно уже бурление вхолостую. Не на почве ли, взрыхленной дедами, расцвела пышным глупым цветом, например, свадьба Биляла и Дели? Не идеализация ли милых иному сердцу предрассудков портит нам потом всю жизнь?
Почему живучи предрассудки? Может, потому, что связаны с тем, что дорого нам, — с дедом, отцом, родным домом, где ты играл в детстве и сохранил о нем память вместе с памятью о юной поре. Парадоксально: юность самое светлое и незабываемое, а помнится вместе с нею давно осужденное на исчезновение.
Я слушал его и думал: что я понимаю в той жизни? В той жизни — с ее ветхими традициями, непостижимыми порядками — все в той жизни для меня только память. Для меня и для таких, как я. Ведь в сущности мы не так уж непримиримы к прошлому, потому что тешимся памятью, ищем в ней доброе зерно, даже там, где и в помине нет ничего разумного и мудрого. Мы, собственно, цепляемся за какой-то романтический стандарт, мы ни за какие блага не согласимся жить той жизнью, а между тем на всех перекрестках шумного, энергичного города поем славу нашей деревне, нашему городку. Как мы отчуждаем его, как мы не любим его, наш городок, когда с восторгом и без удержу болтаем о нем…