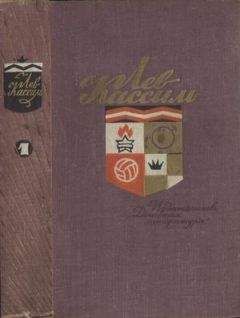– Не прошел номер, – сказал высокий красногвардеец.
Все молчали.
Прошло минут пять. Тошка не появлялся.
Но вдруг над двором взметнулся и пошел забирать вверх самый большой Тошкин змей, розовый, в форме сердца с памятными буквами «Р» и «К». И по нити, туго натянувшейся между небом и крышей, побежала бумажная «телеграмма» с приколотым к ней красным платком. Но Тошка был слаб в расчетах. Перетяжеленный змей, резко козырнув вниз, зацепился длинным хвостом за водосточную трубу. Чтобы отцепить его, надо было пробраться к краю крыши. И Тошка выполз, прижимаясь лицом к холодному ржавому железу кровли. Он добрался до самого стока. Он слышал над собой легонькое: фьюить, цвик… Что-то стучало и лязгало о крышу… Летела во все стороны железная окалина. Вот опять что-то рассыпалось по железной крыше. Зажмурившись от страха, Тошка пополз дальше.
Когда Тошка заполз за скат крыши, Женя перестал его видеть. В комнате все молчали, уставясь в окно. И вдруг из-за крыши выскочил, метнулся в сторону и вознесся кверху большой змей – розовая бумага, натянутая на сердцеобразный каркас из ивовых прутьев. Посередине сердца бумага была пробита в двух местах пулями. И опять по туго натянутой между небом и крышей нити побежала «телеграмма», таща за собой алый лоскут.
Глава IX
Пароход отваливает
Весной Женя провожал Тошку. Маленький отряд собрался у пристани. Здесь были широкоштанные грузчики, железнодорожники, слесари, с неотмываемыми тенями вокруг глаз.
Тошка расхаживал с винтовкой за плечами, с красной повязкой на рукаве. Он сплевывал семечки и говорил странным баском, к которому сам еще не совсем приспособился. От этого в голосе его, как в сломанной шарманке, неожиданно проскакивал смешной пискливый звук.
Отряд шел на белочехов. Ждали парохода. Никакого расписания теперь уже не было. Пароходы приходили и уходили, когда им вздумается. Отгадывать их стало гораздо труднее. Тошка уверял Женю, что за ним пришлют обязательно теплоход с круглым окном.
И вот показался пароход. По густому мычащему гудку, которым он просил уйти подобру-поздорову сунувшуюся наперерез лодку, приятели сразу определили, что это не теплоход… Это шел пароход общества «Самолет». Но почему-то он был белого цвета. Когда пароход несколько приблизился, мальчики совсем растерялись. Судя по передним стеклам рубки, по двухсветным каютам, это должна была быть «Великая княжна Татьяна Николаевна». Но для такого длинного названия слишком мало ведерок было на палубе. И впервые в жизни мальчики не смогли отгадать пароход. Пароход подваливал, и можно было прочесть уже надпись на круге. «Спартак» – назывался пароход.
– Переназвали, – догадался Женя.
– Теперь это вполне свободно бывает, – сказал Тошка и поднял с земли вещевой мешок.
Счастливец был этот Тошка и безусловно без пяти минут герой.
– Эх, я бы тоже! – вздохнул Женя.
– Нос не дорос, – сказал Антон и толкнул его пальцами в лоб.
Женя надулся.
– Ну, рассерчал уже, – сказал Тошка, – шутю я. Правда, Женька, это не все же могут. Я ведь здоровый, здоровше большого мужика. Видишь?.. А ты вон какой. Ты развивайся, тогда тоже примут.
Раздалась команда, отряд строился. Тошка на секунду замешкался.
– Слышь, Женя… Чего это я хотел тебе сказать?.. Забыл вот. Ну ладно, после когда-нибудь. Прощай, Евгений!
– До свиданья, Антон. Напиши про бои, про всё, всё.
– Ты газеты читай, – закричал с пристани Тошка, – там про все будет.
– Ну, а о тебе-то самом?
– Не беспокойся, и про меня – увидишь вот. Оркестр на «Спартаке» заиграл «Смело, товарищи, в ногу…». Отряд прокричал «ура». Пароход сразу дал третий свисток и ушел. Женя долго стоял на берегу. Антон махал ему с кормы удаляющегося парохода.
Женя очень внимательно читал газеты, но прошел год, прежде чем папа принес утром газету, напечатанную на оберточной желтой бумаге, и сказал:
– Женя, смотри, приятель-то твой отличился. Женя вырвал у него из рук желтый листок, едва не разорвав его, и прочел, что молодые бойцы из отряда имени Спартака Чубченко, Беркович и Кандидов во главе с комиссаром Кротовым совершили геройский поступок, угнав от белых большой пароход, груженный боеприпасами и продовольствием. Нигде только не было сказано, что пароход переименован в честь Антона Кандидова. Возможно, что его и не переименовывали вовсе…
И опять о Тошке не было ни слуху, ни духу.
Пошли тяжелые, голодные дни. Папа уехал на фронт. Кругом был тиф. Каждый день приносил новые события, знакомства с новыми людьми. У Жени появились новые товарищи.
Крещенский благовест. Ахали колокола Михаила-архангела, звонили у Покровского монастыря, трезвонил старый собор. Иордань.
Бежали мальчишки, укутанные в рванье. В солдатских котелках бренчали ложки.
– Колька-а-а, американцы сегодня какао выдают!
Двадцать первый год. Тридцать градусов мороза на термометре желтого казенного здания. На Немецкой заколочены витрины. Улицы в яминах. Обнажены разгороженные дворы. У консерватории на перекрестке пала лошадь. Стужа такая, что в носу мерзнет.
Вниз, к Волге, по взвозу сползал крестный ход. В дымном дыхании задрогшей толпы колыхалась полинялая хоругвь. Впереди шли заиндевевшие попы, позлащенные сверх шуб. Сзади – «разжалованные» фуражки, башлыки, невянущие цветочки на шляпках под пуховыми шалями.
У Волги над откосом стоял матрос в черных наушниках. Стоял и лущил семечки. Вились в ветре ленты бескозырки, сдвинутой на брови. Ветру и стуже был открыт наголо стриженный крепкий затылок. Матрос повел застывшим квадратным плечом. У ног его клубилась вьюга. Внизу, под ним, лежала окостенелая Волга, ветряная студеная даль.
Крестный ход полз мимо. Матрос стоял спиной к нему, грыз подсолнухи. Спина его, широкая и уверенная, была полна неприязни к происходящему. Внизу, под откосом, на Тарханке, как называют рукав Волги у Саратова, дымилась крестообразная прорубь. У выточенного ледяного креста амвон, также изо льда, искрился и сек лучи, как стеклянная призма. На солнце ярилась сусальная позолота. Черная дымная вода качалась в проруби.
Вдруг матрос оглянулся. Теперь все увидели его лицо. Оно оказалось несколько неожиданным. Это было лицо молодого парнишки, лицо главаря мальчишеских орав, озорная и немножко мечтательная физиономия второгодника. Все на матросе было с чужого узкого плеча.
В толпе говорили:
– Ишь стоит, демон… озирается. Интересно небось посмотреть, как это у нас в Иордани купаются. А никто не идет.
– Холодно…
– Нонче никого в воду не заманишь. Подмельчал народ. Раньше тебе хоть сорок градусов мороз, а купцы в прорубь только бултых, бултых… Подвезут их в санях, шубы раскроют, вынут это его оттуда, разоблаченного окунут троекратно, опять в шубу, бутылку в зубы и домой. Что за люди были!
– Духа нет того, святости.
– Не в том дело… Прогреться после нечем. Вот чего… Испанку захватишь.
– Где же, где же она, а? Где она, господа, я спрашиваю, удаль былая? Не вижу, – заговорил привычным, гладким голосом господин в бекеше, с широкой, думской бородой.
– Чего это он, а? – заинтересовались в толпе.
Господин уничтожающе, через плечо, оглядел публику.
– Да, печальное зрелище, – продолжал он. – Я говорю, господа, вместе с верой угас и… э-э… священный богатырский дух русского народа. И что же осталось? Безбожие и инфлуэнца.
Верующие смущенно переглядывались.
– Сам пускай лезет! – проговорил кто-то.
Вдруг, легко распарывая толпу, к краю проруби подошел матрос. Он был слегка увалень и размашист в движениях.
– А ну, позво-о-оль! – деловито сказал матрос. – Куда тут нырять?
Он не спеша раздевался. Сбросил бушлат, расстелил на льду, сел, стал стягивать штаны. Снял тельняшку и через минуту стоял на льду, голый, мускулистый, похлопывая себя по груди. На груди синела татуировка – якорь, сердце, змея. Слева под соском виднелись слова девиза: «Любовь до гроба, честь навечно, слава на весь мир». Матрос держал кобуру и искал в толпе надежного человека. Взгляд его остановился на худеньком юном студентике. Ноги студента были обернуты солдатскими обмотками и обуты в полудетские ботики на застежках-защелочках.
– Эй, стюдент, – сказал матрос, – будь друг, подержи эту петрушку, покарауль, пока я управлюсь.
Студентик почтительно принял кобуру. Он хотел что-то сказать, но покраснел, сконфузился. Матрос почесал под мышкой, потянулся.
Священник подошел к нему с крестом и хотел благословить его. Герой легонько отстранил его локтем.
– Ты бы перекрестился, – посоветовали из публики.
– Не требуется, – отвечал матрос.
– Смерзнешь, поживей хотя.