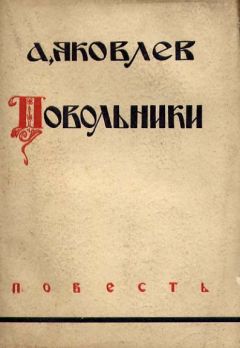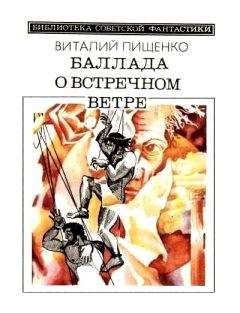И, поглядывая на нее, толпа серых солдат и истомленных рабочих задорнее и громче пела привычные песни.
Где-то по углам бабы толкали одна другую в бока и, показывая на Ниночку, говорили:
— Гляди-ка, она уже тут.
— Ах, чтоб ее.
Но в шуме радостном, в песнях задорных голоса эти проходили неслышным шопотом.
А дни — гужем, гужем непрерывным, и скоро унесли с собою радость первых дней. Все лето праздный город грыз семячки. И томился от праздности. Чего-то ждали люди, на что-то надеялись. А чего — никто не понимал. Ну, вот как есть никто.
Потом пришла осень, и задорным конем жизнь вздыбилась, заупрямилась, закружилась на месте.
Конечно, Ниночка была против этих, новых-то законодателей. Офицерики еще кружились возле нее, пристально посматривая, как колышатся ее бока при походке, но уже были они новые, порой испуганные, порой теряли свой блеск и неотразимость, и шипели часто, а Ниночка смотрела на них растерянно, и даже ей почему-то не хотелось в эти дни слышать о любви.
Потом через немного месяцев в городе — в тихом, благочестивом — была стрельба прямо на улицах, и люди убивали друг друга. Две недели Ниночка высидела в старом доме безвыходно, с пьяным отцом, одряхлевшим, словно заплесневатый пень.
И какой острой ненавистью пылала она к этой бунтующей солдатне… Вспомнит, как тогда, весной, она ходила под руку, и вся вспыхнет:
— Уф…
Но странными путями жизнь скачет по российским просторам.
Они, эти серые, резкие, крикливые — они стали у власти.
Пропали офицерики. Выйдет Ниночка на Московскую, а там, то-есть, ни одного приятного лица, ни одних закрученных душистых усов.
Но во все времена Ниночка — Ниночка. Она чувствовала, как со всех сторон жадно смотрели на нее эти серые, эти с резкими лицами — смотрели откровенно, как кривились толстогубые большие рты в улыбках. Взгляды впивались остро в каждую частицу ее тела. И крик порой:
— Э-эх, малина!..
А подземное, звериное уже бьется в сердце, привычно трепетом проходит и брызжет в смехе, глядит в улыбке, в походке… Ниночка-Ниночка.
* * *
Но дорога направо, дорога налево, дорога вперед. В этой кутерьме воистину никто не знает, где он будет завтра.
Дума. Старинное здание. Те же двери, окна, полы, надписи, сторожа. Но не дума это — совет. И новых барышень в нем тьма.
— Товарищ Ефимова, вы занесли в книгу эту повестку?
— Занесла, товарищ Высоцкая.
— Товарищ Белоклюцкая, вы куда?..
Здесь уже, здесь Ниночка. Шашки передвинулись. Служит, пишет что-то. Никому не нужное, в ненужных книгах. Ниночка, писавшая до этого только любовные записочки, да прежде задачи в тетрадках.
В этой массе новых служащих она, как канарейка среди воробьев, потому что у Ниночки было одно великое достоинство: она умела прекрасно со вкусом одеться и причесаться к лицу.
И всяк, кто войдет в совет, всяк глазами зирк на канарейку. Это же закон — к хорошему тянуться. Комиссары ли там, солдаты царапают взглядами Ниночку, воровскими, острыми…
И месяца не прошло, еще раз передвинулись шашки — Ниночка стала секретарем, знаете ли, секретарем у самого Бокова, о котором и в совете, и в городе, и в уезде говорили со странным смешанным чувством ненависти и страха.
* * *
День. Товарищ Боков — за большим резным столом, где прежде городской голова. Товарищ Белоклюцкая — сбоку, за столом маленьким. На лице — деловитость и важность. Боков толстыми негнущимися пальцами перебирает ворох бумаг.
— А это вот что?
Ниночка словно пружина.
— Это просят сообщить.
— А это?
— Это нам сообщают…
Все объяснит точно и понятно, повернется и пойдет к своему столику, а Боков воровским взглядом поверх вороха бумаг — трах! — так и пронизает Ниночку всю, всю…
В голове разом кавардак.
И через минуту опять.
— А здесь про что?
Ниночка к его столу.
От нее духами. Ноздри у Бокова ходенем ходят. Вот бы всю втянул ее…
Угрюмым взглядом он подолгу смотрел на нее, откровенно смотрел, как двигались ее круглые плечи, вздрагивала грудь, и вздыхал, и пыхтел, как запаленная лошадь, и лицо становилось шафранным…
* * *
Время было темное, полным-полно было тревоги кругом.
Горели восставшие села и деревни.
Боков ураганом носился по уезду, — там, здесь, везде.
Как острая игла в кисель, врезывался он в эту бунтующую, безалаберную, нестройную жизнь. С ним были люди, для которых было ясно все.
— Вот как надо, Боков.
И Боков делал быстро и решительно, потому что он был на самом деле человек храбрый и решительный. Прадедова кровь, старая повольная бурлила.
В город он возвращался победителем, будто уставший, как гончая собака после охоты, но готовый хоть сейчас в новый поход.
— А, контреволюция? Я-а им… Вот они у меня где.
И показывал широкую, будто доска, ладонь, и сгибал ее в кулак, похожий на арбуз.
А Ниночка — хи-хи-хи да ха-ха-ха, серебряным колокольчиком рассыпается.
— Ах, какой вы храбрый, Герасим Максимович!
Боков рад похвале.
А вокруг него закружились разные люди — ловкие да юркие — советники.
— Товарищ Боков, как вы думаете, не надо ли этого сделать?
Боков пыхтел минуту, морщил свой недумающий лоб и брякал:
— Обязательно. В двадцать четыре часа.
Что ж, у него — живо. Революция — все на парах, одним махом, в двадцать четыре часа.
Ниночка теперь — правая рука у него.
— А ну, прочтите, что вот здесь.
Ниночка читала. Боков на нее этак искоса — на ее тонкие руки, на вздрагивающую грудь, на… на… вообще так глазами и шпынял.
— Подписывать?
— Непременно.
И Боков подписывал:
— Г. Бокав.
Каракульками. Пыхтя. И губами помогал, подписывая.
Неделька прошла, другая, третья… В уезде тихо, в городе — тихо.
— А-а, поняли?..
Так-то.
Прежде вот от утра до вечера бумаги, бумаги, бумаги. Строгость во всем. Теперь нет. Ловкие советники пооткрыли отделы, все дело себе забрали. По реквизициям ли там, по контролю, по уплотнению… К Бокову только особо важные. И еще — по знакомству.
Раз пришла баба. Без бумаги. Ниночка ей:
— Изложите просьбу письменно.
А та:
— Неграмотна я. Да мне бы просто Гарасеньку повидать.
Ниночка сказала Бокову.
— Впустить.
Зашла баба в кабинет (теперь уже не в думе заседал, а в особняке купца Плигина), оглянулась на темные резные столы, этажерки, поискала глазами икону, не нашла и перекрестилась на гардину крайнего окна.
— Еще здрасте.
— Что надо?
— Аль не узнал, Герасим? Ведь это я, Варвара Губарева.
Боков осклабился.
— А-а, тетка Варвара; ты зачем же?
— Да вот говорят, будто ты все могешь. Леску бы мне на баньку ссудил. Все равно, лес-то вот со складов все зря тащут.
— У, это можно. Для тебя, тетка Варвара? Все можно.
И после этого попер свой народ к Бокову… Только вот мать… не приходила мать-то… Заговорят с ней соседи, Варвара та же:
— Вот он, Герасим-то какой. Вот банька-то — из его лесу.
А Митревна угрюмо:
— А ты молчи-ка, девага. Я про него и слышать не хочу. Бусурман.
— Да ты гляди…
— Нет, нет, не хочу.
Вот ведь — радоваться бы, что сын — герой, так она не-ет.
* * *
Будни. У ворот плигинского дома часовой с красной лентой на рукаве. Другой на углу, третий в саду, что по яру сбегает до самой Волги. Они всегда маячат — часовые — и оттого дом глядит жутко, как тюрьма или крепость. Но идут люди, хоть и мало, идут в дом, всяк за своим, скрываются в белых каменных воротах, кружатся. И в городе, и в уезде клянут Бокова, а в дому уже бродят улыбистые, угодливые люди, спрашивают почтительно:
— Принимает ли товарищ Боков?
И много их закружилось здесь.
Ходит по комнатам благообразный, волосатый с полупьяными наглыми глазами — Лунев, адвокат, тот самый, что защищал на суде Павла Бокова.
Этот знает и жизнь, и пути к людскому сердцу…
А за столом в зале, со странной надписью на дверях: «политотдел», сидит чернявый, суетливый, с очень серьезным лицом, деловитый такой — товарищ Любович. Это — чужой, не белоярский.
И в других комнатах: в пятой, десятой, пятнадцатой — велик-превелик купеческий дом, — в каждой люди: кто войдет, увидят деловитость, а дела-то нет — зевают, слушают, лущат семячки; ждут четырех часов, чтобы поскорее домой.
Только Ниночка — она вся деловитость. Каблучки тук-тук-тук. Платье на ней из креп-де-шина, все в волнах, черное, ярко оттеняет белизну шеи и рук.
Тяжелые Гараськины глаза, как магнитная стрелка — все на Ниночку, все на Ниночку. А Лунев жулик, — знает, чем раки дышат, — Ниночка за дверь он к Бокову:
— Хороша девица?
Улыбка блудливая.
— Целовал бы такую девку, целовал, да укусил бы напоследок, — брякнул Боков и рассмеялся скрипуче, с хрипотцой.