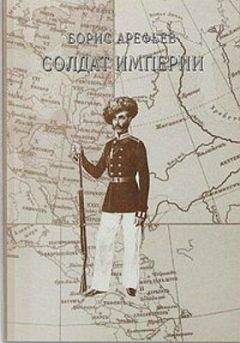Она замолчала.
— Вот как? — удивился Горчаков и добавил: — Ну и бойкая ты девица, Ирина!
Мы подошли к палаткам. Горчаков предложил мне заглянуть внутрь большой палатки, снова напомнив при этом, что они «не обжились». Я вошел в палатку. Действительно, они еще «не обжились». Рюкзаки, спальные мешки, свертки кошмы — все это было свалено в большую кучу. Двое мужчин разбирали на длинном, пахнущем свежим деревом, очевидно недавно сколоченном столе микроскопы, лупы, — должно быть, устанавливая полевую химическую лабораторию.
— Вы надолго в наши края? — спросил я.
— Как поживется, — ответил Горчаков и добавил: — Если говорить серьезно, то года на полтора-два.
— Где же вы собираетесь жить зимой?
— Здесь, конечно. В Тундрогорске все забито. Так сказать, жилищный кризис.
Я усмехнулся:
— В палатках? Это Заполярье, профессор.
— Я знал это еще двадцать пять лет назад, когда впервые приехал в эти края с экспедицией, — сказал Горчаков. — С тех пор я зимовал здесь четыре раза.
Я смутился. Очевидно, Горчаков заметил это и пояснил:
— Мы настелим полы, утеплим стены, если надо, кошмой обобьем, — геологи народ запасливый.
Мы вышли из палатки.
— Что ж, — сказал я, — желаю успеха. Все, что будет вас интересовать в туннеле, к вашим услугам. Контора «Туннельстроя» отсюда всего в пятистах метрах, так что будем встречаться.
Я попрощался с Горчаковым. Волошина стояла по-сдаль. Шагая по дороге, я думал, что вряд ли произвел на профессора приятное впечатление. Наверное, он еще ни разу не встречал горняка, туннельщика, который так апатично отнесся бы к геологам, людям столь родственной профессии. Если бы он знал, в каком я был состоянии, когда мы встретились!..
Я подумал о том, что надо будет в ближайшие дни пригласить Горчакова к себе, показать ему строительство, угостить…
— Товарищ Арефьев!
Я обернулся. Ко мне спешила Волошина. Она торопливо перепрыгивала с валуна на валун.
«Ну, что ей еще от меня надо?» — подумал я. Она приблизилась.
— Можно вас проводить немного? Мне хочется кое-что спросить…
— Пожалуйста, — коротко сказал я, останавливаясь. Но она, поравнявшись со мной, продолжала идти вперед, и мне волей-неволей пришлось пойти с ней рядом.
— Я хотела задать вам вопрос… Я не понимаю, почему вы меня так встретили?.. — Она чуть замедлила шаг. — Вы не могли не знать, что я пришла не на прогулку, не просто для своего удовольствия. Я единственный минералог нашей экспедиции. Остальные— геологи и коллекторы. Есть петрограф… В вашем районе еще раньше была открыта интересная минерализация, поэтому я и попросилась в эту экспедицию.
Я молчал.
— Вы же меня встретили так, как будто мы не связаны общим делом, как… как муху надоедливую. А ведь вы меня совсем не знаете!
— Знаю, — сказал я.
— Что, собственно, вы знаете? — удивилась она.
— Все. Знаю, что вы молодой специалист. Окончили институт в этом или прошлом году. Верно?
— Допустим…
— Вас еще в вузе тянуло в самые трудные, в самые дальние экспедиции. Так?
— Правильно. Но какое…
— Подождите, — нетерпеливо прервал я ее, — слушайте! Вы, конечно, романтик. У вас есть мечта. Есть? Говорите!
Она снова посмотрела на меня. В ее взгляде по-прежнему были растерянность и недоумение.
— Конечно, — ответила она нерешительно. — У каждого человека, по-моему, есть мечта…
— Я знаю вашу. Вы хотите открыть новый минерал. Совсем новый, неизвестный в науке о минералах. Вся наша промышленность только и ждет этого минерала. Вы назовете его… волошит. Ведь ваша фамилия, кажется, Волошина?
Она остановилась. Теперь ее глаза были полны слез. Но я не щадил ее:
— Вы уже давно знали, что откроете этот минерал. Еще в институте. А может быть, и раньше, когда решили идти в геологический. Вам все нипочем. Вы в два счета проникнете в эти недра и эти горы. Смотрите, они сто тысяч лет только вас и ждали.
Мы стояли друг против друга. В глазах девушки уже не было слез. Они были совершенно сухими. Только на щеках ее горел румянец. Но я не мог остановиться.
— Я знаю все наперед, — продолжал я. — Начнется зима. Ваши палатки занесет снегом. Потом наступит кромешная ночь. Будут дуть страшные ветры. И тогда вы поймете разницу между своей мечтой и действительностью. Вы забудете о своем минерале. У вас появится другая мечта: бежать отсюда…
— Послушайте, — неожиданно звонко крикнула Волошина, — прекратите сейчас же!.. Я… я не хочу больше говорить с вами! Идите пугайте других! И в туннель я приду, потому что это не ваш туннель, а наш, наш общий! Я ни слова не сказала профессору о том, как вы меня приняли, — думала, это так, случайность, человек расстроен: я слышала, у вас план не выполняется… Но я своего добьюсь, если понадобится, я сама пойду к директору комбината, и в парорганизацию пойду, вот!
Внезапно Волошина резко повернулась и пошла обратно к палаткам. Она шла быстро, не выбирая дороги, споткнулась — ушиблась, видно, но, не останавливаясь, пошла дальше, то скрываясь меж валунами, то взбираясь на них.
3
Еще издалека я увидел, что на крыльце нашего дома кто-то сидит. Человек расположился на ступеньках спиной ко мне, и, только подойдя ближе, я узнал Полесского, исполняющего обязанности редактора нашей городской газеты. Эти обязанности он выполнял уже около года, потому что редактор газеты, пожилой человек, страдал гипертонией в очень тяжелой форме и давно уехал в Москву для длительного лечения. Поговаривали, что он вообще к нам не вернется и Полесского назначат редактором.
Но то ли потому, что редактор все же должен был вернуться, то ли по другим причинам, только он до сих пор подписывал газету «и. о.».
Рассказывали, что у Полесского довольно сложная, трудная биография. В молодости он работал в московских и ленинградских газетах; говорили, что подавал большие надежды как литератор, выпустил повесть или роман, который мне не приходилось читать. Но потом пошел «под уклон». Он стал пить; выпивал он часто и у нас, в Заполярье, где до недавнего времени это как-то и не считалось большим пороком. Настоящая фамилия Полесского была Пыхов.
Он увидел меня, только когда я подошел почти вплотную к крыльцу.
— Привет начальству! — крикнул Полесский, вставая и протягивая мне руку. — А я тебя жду, Арефьев. Нужна статья. В рабочее время, я знаю, тебя не поймаешь и не уговоришь. А сегодня ты от меня никуда не денешься. В дом приглашаешь?
Мы поднялись ко мне.
Я жил все в той же комнате, что и год назад. Соседнюю, где когда-то жила Светлана, теперь занимал Трифонов, секретарь нашей парторганизации. Обставлена моя комната была небогато. Кровать, стол, который служил и столовым и письменным, два стула, этажерка с книгами — вот, пожалуй, и все.
Полесский сел. Он был, как обычно, давно не брит, в не очень чистой сорочке с расстегнутым воротом (галстука он никогда, сколько я помню, не носил). Нередко он подтрунивал над моей привычкой часто менять сорочки и носить галстук (называл меня в шутку «восходящий класс» или «советский буржуй»), всерьез утверждал, что в условиях Заполярья все это «чистоплюйство» ни к чему, и любил вспоминать двадцатые годы, когда «больше интересовались мозгами человека, чем его внешним видом».
Полесский был прекрасным оратором. Сам я совершенно не умел говорить публично, но меня всегда раздражали люди, которые, занимая ответственные посты и уже в силу одного этого обязанные умно и сердечно говорить с народом, читали свои речи по записке.
Как-то после одного из партийных активов, на котором Полесский выступал особенно интересно (речь шла о перспективах развития нашего района), мы долго беседовали с ним.
— Меня поражает, — говорил я, — ваша способность выступать без всякой шпаргалки и при этом никогда не сбиваться, не терять нить. Знаете, — продолжал я, — бывает, когда вы начинаете какой-нибудь длинный словесный период, я боюсь, что вы из него не вылезете, что конец периода если не по смыслу, то, во всяком случае, грамматически не совпадет с началом. И все же вы каждый раз с честью выходите из трудного положения. И мне становится обидно за других, которые часто мямлят и сбиваются, даже читая по записке…
— Хочешь, я скажу почему многие наши ораторы разучились говорить без записки? — внезапно спросил Полесский. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Догматизм, понимаешь? Слишком много развелось у нас людей без царя в голове. Формулировочками живут. Чужими мыслями. Этакими болванками готовыми мыслят. У них даже на то интеллекта не хватает, чтобы формулировки зазубрить. Вот они их и выписывают, а потом с листками на трибуну лезут. Потеряется один листок — и оратору крышка. Понял?
Я подумал, что кое в чем Полесский был прав. Начетчиков у нас и правда развелось немало. Нападки Полесского на догматизм не могли не вызвать у меня сочувствия. Но меня неприятно поразил его тон. Полесский говорил обо всем этом с режущим слух ехидством, с сознанием, что только ему доступно судить и анализировать то, что не под силу понять мне, человеку маленькому и политически наивному. В его словах я почувствовал какое-то злорадство и спросил себя: а стал бы Полесский говорить мне все это четыре или пять лет назад? И тут же ответил: конечно, нет! Но в последнее время вообще многое изменилось.