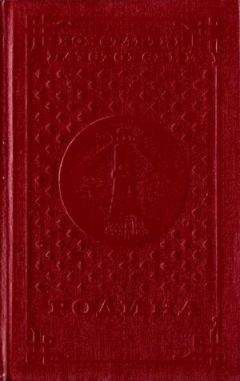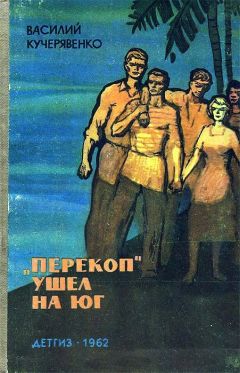– Получай, хрычовка! – крикнул он, когда автомобиль поравнялся с ним, выхватил руку из кармана и швырнул в королеву камнем.
Звонко треснуло и посыпалось стекло, автомобиль круто повернул и остановился. Полицейские бежали, скользя по мостовой, бешено цокали копыта мчавшихся всадников, толпа гудела и сжималась кольцом.
Взяли его с трудом. Он выхватил костыль у Ганса и отбивался от полицейских, как от своры псов. Ганс упал. Автомобили сгрудились и противно ревели, излучая зеленоватый свет.
Полицейские били его, он закрывал голову руками, и на все это смотрела королева, вышедшая из автомобиля. Щеки ее тряслись, она попискивала, как мышь. Она сверлила узкими глазами толпу полицейских, отыскивая матроса. Рука у нее – большая куриная лапа – была разбита камнем, она закрывала ее кружевным платком.
Я ушел к себе на пароход. Амстердам засыпал под скучным ночным дождем. Северный ветер дул с моря, и это освежало мою голову.
Москва, 1925
Записки Василия Седых были найдены в одном из наших северных портов при обстоятельствах, исключительных для сухопутного жителя и обычных для моряка.
Грязный буксир приволок в порт норвежский рыболовный бот.
Бот был замечен в океане после шторма. Он до палубы сидел в воде, команды на нем не было.
Бот вытащили лебедкой на сушу. Из щелей в борту хлестала зеленая вода, размывая на берегу рыхлый снег и песок.
Шла весна. С океана дули нервные, порывистые ветры. Все было мокро и блестело, как клеенка, – и бурые скалы, и бревенчатые дома, и высокие сапоги рыбаков.
Я бродил по порту с головной болью. Мои припухшие от полярной ночи глаза щекотало жидкое солнце. Вокруг было столько сырости, что хотелось выжать в кулаке, как губку, – порт, город и даже небо. Я представлял себе, как выжатое небо развернется над пристанями грубым синим полотном, прозрачное от горячего, сжигающего кожу солнца.
Я бродил по пристаням, липким от рыбьей чешуи, и тосковал по жаре. Билет в Москву лежал у меня в кармане. Коричневый кусочек картона отсырел и прилипал к холодным пальцам. В нем была вся моя тоска по сухости, по теплу.
Слоняясь по пристаням, я увидел на берегу норвежский бот. Вокруг него толпились рыбаки и грузчики. Толпа была угрюма и нелюбопытна: на Севере любопытство – признак слабости, его тщательно скрывают. Я подошел. Рыбаки вытаскивали из трюма вещи. Знакомый капитан порта стоял рядом и заносил их в список. Это были скудные остатки кораблекрушения: плащи, алюминиевая посуда, размокшие карты, бинокль и два матросских, окованных железом сундучка.
Сундучки вскрыли. В одном среди фотографий и чистых рубах лежала тетрадь, завернутая в вощеную бумагу. Капитан порта ухмыльнулся:
– В вощенку завернул, чтобы не раскисла в случае чего. Дотошный парень. Ну-ка, посмотри, что здесь такое.
Он взял тетрадку, но не посмотрел ее, а отдал мне. Ему было некогда: из трюма вытаскивали сети. Толпа зашумела и дрогнула. Новая норвежская сеть падала грузами на берег, поддерживаемая корявыми руками. Ее воровато щупали, перетирали нитки, нюхали пальцы. Из трюма змеей выползало пеньковое богатство, чудесная ловушка для сельдей, гигантская сеть ценою в тысячи золотых рублей. Страсти разгорелись, и я ушел незаметно, унося тоненькую тетрадку. Цена ей была пять копеек.
Вечером я уехал в Москву, не оглядываясь на Север, – он уползал в темноту вместе с мокрым снегом и тусклыми рельсами.
В Москве я впервые раскрыл тетрадку, – признаться, я даже позабыл о ней. Прежде всего меня поразило то, что она была написана по-русски. Потом слово за словом я переписал ее начисто. Меня не покидало чувство ученого, восстанавливающего санскритскую надпись. Я восстанавливал прямые каракули, и из них, как из густого тумана, появились контуры истории, волновавшей всех до войны, но потом забытой.
Вот содержание тетради.
Записки Василия Седых, 50 лет
В 1910 году через английского консула в Томске нанялся я на службу в английскую экспедицию к Южному полюсу. Я привычен ко льдам, плавал матросом с капитаном Вилькицким, умею ходить за собаками, а англичанам нужен был такой человек, – они брали с собой наших сибирских лаек.
Жалованье мне положили десять фунтов в месяц на ихних харчах и обмундировании, не считая, что до дому туда и обратно они взялись меня доставить за свой счет.
Я, конечно, согласился, потому хотелось мне поглядеть на Англию, и опять же за два года я заработал бы 240 фунтов (на наши деньги 2400 рублей), а риску никакого, – на самый полюс идти мне было не надо.
Командовал экспедицией капитан Шкотт, англичанин, человек спокойный и ласковый. Ко мне он был хорош.
Однако в Англию я не попал, а отправили меня через Японию в порт Сидней, в Австралию.
В Японии видел я Внутреннее море, – очень мне понравилось. Море, кругом острова в садах и лесах, и нет на том море штормов, всегда тихо. Стоит оно как пруд. Японские рыбаки ловят там рыбу, чудную, на мой взгляд, – красного и желтого цвета. Воздух там прозрачный и жаркий. Там мы стояли сутки, и я купил себе в городе Кобе эту тетрадку. Сделана она из японской рисовой бумаги, и порвать ее невозможно.
В Кобе я последний раз пил вино и глядел японский театр: артисты рубили друг друга шашками. Весь пол залили кровью, музыканты били в котлы, затянутые бычьим пузырем, а публика смеялась и пила саки. Представление идет круглый день, так что иные тут же спали.
В Кобе встретился мне наш морячок, цусимец. Он женился на американке. Жена его держала прачечную, а он ходил цельные дни пьяный и играл песни. Узнал, куда я иду, и очень удивился.
– А что там, на этом самом полюсе, – земля, лед или вода?
Я и сам не знал. Думалось мне, что лед.
– Отчаянный ты человек. Ты с английских харчей подохнешь, они кормят соусами и пирогом из риса, а водка, правда, у них знаменитая. Но водки той они тебе не дадут, потому ты русский, а русские у них в небрежении. Будешь скорбеть.
Мне же возврату не было, потому я молчал.
За Японией мы шли Тихим океаном. Красота такая, что только помалкивай. Солнце заходит – будто вода и небо горят, и некуда спрятаться. Первое время было мне страшно: все не наше, – рыбы летают и бьются о борта, матросы жуют какой-то красный корень, и изо рта у них течет пена, похоже на кровь, острова там круглые, а в середине озера – вода в них тихая, не шелохнет. Но в озера эти прохода нет, и укрыться в случае волнения нельзя. Острова те из коралла, что у нас делают бусы, но коралл серый, некрасивый, – только песок красный.
Народ на тех островах живет под британским флагом. Народ статный, широкогрудый и темный, вроде как негры, но чище и взгляд светлее. Женщины там хороши – как девочки, все в бусах и очень смешливы.
В скором времени пришли в Сидней, а оттуда отправили меня на остров Новую Зеландию, где дожидалось судно капитана Шкотта. Прибыл я туда со страхом. Порт маленький, кругом горы, леса, чистота, и что мне понравилось – масло, молоко, сыр – все со льда.
Судно Шкотта я поглядел. Неважное судно с виду, но на ходу оказалось хорошее, быстрое, только чуть валкое.
Название судну «Терра Нова», что по-ихнему, значит «Новая Земля».
К тому времени я уже подучился по-английски.
Шкотт призвал меня, подал мне руку, показал на собак. Собаки как собаки – крепкие. Однако от жары будто ослабли.
Узнал я тогда, что на полюсе великая земля и горы, и самый полюс лежит на тех горах на большой высоте. К земле этой – называется она Росс – шли мы долго.
Шторма там жестокие, валит и валит неделями, и все с веста на ост. Видели много китов.
В дороге Шкотт часто приходил ко мне, глядел на собак. Из себя он был задумчивый, хотя часто смеялся. Команды у него было много – все англичане, только я да Иван Корнеев – русские. Были и норвежцы. С теми мы быстро спелись, – свой брат. А к англичанину привычка долгая, и он к тебе издали привыкает.
Но как привык, – лучший твой товарищ и ни за что не выдаст. Не человек – железо.
Губы сожмет и работает, пока кровь не пойдет из-под ногтей. Болтовни у них мало, больше свистят, а ругани я ни разу не слышал. Команду выполняют справно, бегом.
Хороший экипаж, сказать нечего.
Подошли вскорости ко льдам, – здесь дело знакомое. По развозьям пошли к югу. Льды там не наши. Цвет иной, – вроде как, медные наполовину и синие наполовину, и зверья почти нет. Не видел я ни одного медведя.
Подошли к земле. Не земля это, а называется «ледяная стена». Об нее бьет волна, стоит шум, а высота такая, что смотреть дух захватит. Матросы притихли. Места, верно, страшные. Всю жизнь свою вспомнишь, и мутно делается на сердце, – сказать по правде, думалось мне, что не выбраться нам из тех мест живыми.
Утром встанешь – туман, льды прижимают к берегу, накат, а берег – лед до самого неба, полированный и не очень синий. Море в трещинах, гудит, будто поезд.