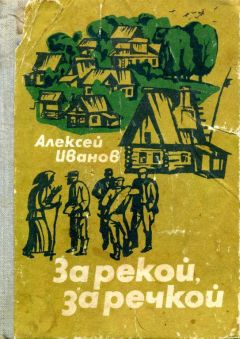У тети Ули не было часов, а за работой времени не наспрашиваешься. Часто она опаздывала со звонком, часто торопилась, директор, постукивая ногтем по стеклу своей ручной «Победы», делал тете Уле замечания, она зеленела от обиды, как тот медный колокольчик.
Особенно сварливой бывала уборщица осенью и весной. Тогда ребятишки удивлялись: чем больше она поджимала губы, тем больше неслось из них ругани и проклятий. На школьном дворе пилили заранее привезенные дрова, кололи и складывали их в поленницы. Хотя на уроках труда и выходили к дровам ребятишки, облегченья иль там радости для тети Ули не прибавлялось. Ребятишки могли сломать ее лучковку, сложить кривую поленницу, оттяпать себе палец. Что оттяпает и без пальца парнишка останется, — это для нее, похоже, и не страх великий, — сам подставил, сам и отрубил, а что ее, тетю Улю, «затаскают за этого дьяволенка», — вот отрава.
Но и тетю Улю Борька с Мишкой обхитрили. Пока она звякала ведрами в интернате, они отсиживались в школе, как только перешла в классы, — шмыгнули в интернат.
Надо было еще перехитрить волков, которых они ожидали встретить в лесу на дороге. Борька от охотников слыхивал, что волк за версту чует запах пороха и боится его. Значит, надо взять с собой пороху, хоть немножко. Но куда его положить? В карман? Это так просто…
Борька загодя надорвал подкладку ушанки, вытащил клок ваты и в образовавшееся гнездышко всыпал дымного пороха. Подкладку зашил, как и было. У Мишки шапка новая, рвать ее он не захотел, потому порох засыпал за козырек. Решили, что и так можно. Припасли еще несколько коробков спичек — волки в придачу огня боятся…
Убежав на трактор, Мишка унес с собой свою часть пороха и спичек. Не догадался Борька отобрать и то и другое. Зазря все пропадет.
* * *
Переобувшись, проверив и даже обнюхав шапку, Борька вышел на улицу. Ночи ждать не стал, потому что уже и так было темно, — а первая темень после дневного света самая темная. Из окон изб через дорогу тянулись неяркие, с размытыми краями полосы света. В окнах предпоследней избы шевелились тени. Кто-то распахнул дверь, — в избе пилили на гармошке. Борька позавидовал тем людям, которые в тепле и все вместе веселятся среди ночи. Ночью им не то, что днем, — совсем без заботы.
У крайней избы на столбе горел фонарь. Тень Борькиной головы выскользнула откуда-то из-под ног, показалось приплюснутое и оттого широкое туловище, потом — коротенькие толстые ножки. С каждым шагом тень вытягивалась, раскачивалась, подпрыгивала головой на все более темнеющем снегу, теряла свои очертания. Борьке так хотелось сохранить свою тень, так цепко вглядывался он в ее пропадающие контуры, что она уже в совершенной темноте показалась упавшим светлым столбом на ногах-пасынках. Но это был какой-то обман, и он пропал внезапно.
Леса еще не было, дорога шла открытым местом. Справа, под крутым спуском, лежала широкая пожня, без кустика, без стогов, с петляющей по ней речкой, которая скрыта от глаз снегом и темнотой. Отсюда опасности ждать нечего. Пока «кто-то» с пожни к дороге будет карабкаться по глубокому снегу в гору, Борька услышит шебаршанье и успеет где-нибудь притаиться. Он даже не то что шепотом — про себя не смел волков называть сейчас волками. Ему казалось, что назови он их просто «кто-то», и это будет не так обидно для них, может быть, пропустят его.
Слева — поле, оно скатывается к дороге, за ним глаз да глаз нужен, долго ли скатиться… Борька следил за полем, а ноги шли и шли, и вот уже под валенками перестала позванивать ледяная крошка, кончил повизгивать плотный снежок, звуки стали мягче и глуше — шорох и скрип. Начинался лес.
Перед Борькиными глазами вдруг вырос черно-белый «кто-то». Борька остановился, как вкопанный, но валенок скользнул по санной колее, и Борька упал. Мгновенно вскочив на ноги, глянул в «ту» сторону. Черно-белый стоял на месте…
И отлегло от сердца. Это был высокий пень. Борька вспомнил, как осенью за него прятались, когда по дороге из школы играли в разбойников. Удивился, вот, дескать, как бывает: днем все знакомое и преданно-свое — полянка ли, лес ли, пень ли этот, а как только придет ночь, так все станет не твоим, — боязным. А ведь все таким же остается: полянка — полянкой, лес — лесом, пень — пнем. Утром-то они такие же, как были вчера. Вот закавыка! Значит, они и ночью такие же, и бояться тогда, пожалуй, нечего.
Борька поосмелел немножко и пошел дальше. Да и лес не такой уж страшный. Чистый бор, сосенка к сосенке. Не дремучий же, не бурелом, не Ивановский овраг. Вот даже сосна Борьку приветила — склонилась веткой к земле под снеговой шапкой. Борька, чтобы совсем уж убедиться, что все, как днем, дотянулся рукой до ветки, пригнул ее еще побольше и отпустил. Метнулась вверх светлая тень. Ветка осталась там, где ей и полагалось быть, а сверху ухнули в сугроб разломанные белые куски, за ними посыпалась сухая снежная пыль с застаревшим, застенчивым запахом смолы и хвои.
Борька присмотрелся в темноте и видел теперь не одну черноту, но и неисчислимые белые пятна на черно-зеленом фоне. Весь бор стоял в снегу. Пни, развилки, ветки, верхушки — все, что не слишком гнулось, не хитрило, набекрень, на затылке, в нахлобучку, как у пьяных мужиков, удерживало свои белые шапки.
Засмотрелся Борька и вроде бы подзабыл немножко, кто он и зачем сейчас здесь. Правда, даже про себя не мог воскликнуть или просто сказать: «Как красиво!» — потому что не дачник же он, а здешний житель. Для здешнего жителя сосна не только живая картина, но и зыбка с первых минут жизни, и изба, и домовина по окончании последней его минуты. Борька не понимал — подсознательно ощущал, что в природе все хорошо, потому что все к месту. И шапки снега на соснах не затем, что так красиво, а чтобы укрыть от холода ветки. И снег на земле толстым слоем, чтобы тепло было корням. И первое весеннее солнышко для того, чтобы обжечь, оплавить барашки шапок, обнажить кончики ветвей и чтобы что-то живое под лучами солнца подвинулось к ним, чтобы чуть позднее выстрелить в голубое небо нежно-зеленым ростком. И растаявший снег не станет только грязью, а напоит корни сосен водой. И облетающие иголки — не прах и не бесполезная блестящая в зной попона земли, а будущая еда дерева.
Сосна завсегда сама собой. В глухую ночь среди леса страхи не дают человеку до конца забыться или быть таким, как днем. Что такое страх, сосна не знает. Борьке так хочется стать сосной, но не навсегда сосной, а только лишь когда плохо и страшно.
До Борькиного слуха донесся шорох, за ним мягкий-мягкий стук, шелест, снова стук и подряд несколько приглушенных вздохов. Борька, напружинившись, замер, но кроме частых толчков сердца в висках ничего не услышал. И когда к горячей щеке прикоснулись снежные пылинки и дошел робкий запах хвои, Борька догадался, что рядом с верхней ветки сползла шапка снега, простучала по нижним лапам, увлекла за собой другие снеговины, и их со вздохом принял сугроб.
Но отчего сползла первая снеговина?..
Борька стал жечь спички. Чтобы огонь был ярче, выхватывал из коробка сразу по нескольку штук, однако за время коротких вспышек успевал разглядеть только черные, в серебринах снега валенки да метр-другой колеи, взрыхленной гусеницей дяди Толиного трактора и до блеска проглаженной санным полозом. Спички гасли, и Борьку обступала настолько плотная и близкая темнота, что казалось: она жарко касается рук, лица, залезает даже под телогрейку.
Борька отшвыривает коробок с оставшимися спичками.
Они — вражьи для него. Мгновение назад он стоял в кружке яркого света среди жуткой темноты, из которой мог выскочить на него, освещенного и слепого, кто угодно.
Когда вновь стали различимы черно-белые краски, Борька чуть не бегом двинулся в глубь леса.
Теперь ему стало казаться, что кто-то идет за ним, похрупывая снежком, не отставая и не приближаясь. Борька останавливался, замирая, — похрупывание смолкало. Снова шел — и снова сзади, совсем рядом, кто-то шел за ним. Не решаясь больше останавливаться, чтобы не оказаться настигнутым, Борька на ходу проверил шапку, даже окунул палец в пороховое гнездышко, растер руки — так надежней.
Вдруг будто осенило Борьку: волк не может так редко и тяжело ступать, снег не будет скрипеть под его лапами. Значит, не волк! Но тревоги не убавилось. А вдруг какой-то человек? Может, разбойник?.. Соседскую бабку Матрену хлебом не корми, а дай порассказывать о всяких разбойниках с большой дороги. И Борька вспомнил сейчас… Не вспомнил, а как-то враз воскресло и промелькнуло в его голове. Будто по ночам когда-то бегали по дорогам здоровенные мужики, ловили детей и насосами с иголками выкачивали из них кровь. Или как поймали этих разбойников, обыскали их землянку и нашли куски разрубленных людей. Правда, мало кто верил бабке Матрене. Она, зная наперед, что веры ей не будет, перед тем, как рассказывать, крестилась и говорила: «Да кто будет из вас когда в Драчеве, спросите, любой скажет — так и было».