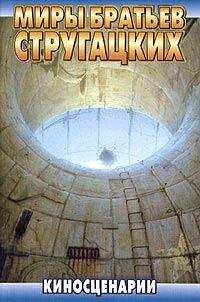У самого нет шеи — голова лежит прямо на плечах, как шар. Тройной подбородок сразу перетекает в грудь. «Да и какой крюк выдержит эту тушу?» — спрашиваю я себя.
Их бесцеремонность меня уже коробит. Я для них всего лишь школьный учитель, — и какой со мной разговор? — а будь я хотя бы для начала аспирантом, они бы мне пели хвалебные гимны. И пятый, подтверждая мой невесёлый вывод, начинает капризничать:
— Нестор Петрович, мне не нравится этот крюк, какой-то он несовременный. Я вешаться на таком не намерен. Хочу модный крюк!
В это время кто-то пробежал за окном и на ходу громогласно известил:
— В универмаге выбросили импортные электробритвы!
Толкаясь и пыхтя, мои ученики вываливаются вон из зала. «Вернитесь! Урок ещё не закончен!» — кричу я истошно и, обгоняя собственные вопли и свой класс, первым влетаю в универмаг.
— Только что взяли последнюю, — говорит продавец, опережая мой вопрос.
— Безобразие! Дайте жалобную книгу! — требует жирный самоубийца.
Продавец насмешливо подмигивает и превращается в Лину. Рядом с ней, будто материализовавшись из воздуха, возник обескураженный Волосюк.
— Да, да, Нестор Северов, уже всё продано. Так получилось. Постфактум и де факто, так сказать, — тяжко вздыхает профессор.
— Ладно, я привык, можете измываться, — иронически улыбаюсь я.
С этой же иронической улыбкой я проснулся, умылся, поел и вышел на улицу.
— Дядя Нестор! — зовёт пятилетний сосед Федяша и машет ручонкой.
Я осторожно машу ему в ответ, стараясь не расплескать свою улыбку. Она пока моё единственное утешение и защита.
— Алло, Северов!
Это подал голос отставник Маркин. Он за своей оградой копается в земле. Отставник — карапуз; не представляю, как его слушался целый полк. Во всяком случае, я почти такого же роста и поэтому испытываю к нему нечто похожее на родственное чувство. Маркин жмурится на солнце, поправляет завязанный на голове носовой платок. Узлы платка торчат, будто рожки. Ни дать ни взять — толстый добродушный чёрт.
— Как поживают шахматишки?
Маркин намекает на очередную партию. Предыдущую он проиграл с треском и не успокоится до тех пор, пока не возьмёт реванш.
— Так как же? Может, сегодня?
Если раскрою рот, пропадёт улыбка. Я в затруднительном положении. И всё же мои губы с великим трудом разжимаются, образуя узкую щель, и я из себя выдавливаю:
— Сегодня я буду занят.
Покуда Маркин вникает в мой ответ, ищет в нём потаённый смысл, я бережно несу улыбку дальше по нашему переулку. Возле третьей по счёту калитки старик Ипполитыч выговаривает прохожему.
— Вот вы! Проходите и не здороваетесь? — укоряет он мужчину в светло-сером костюме.
— Но мы ведь незнакомы, абсолютно! — озадаченно оправдывается мужчина. — Я не знаю вас, вы — меня.
— Это всего лишь формальности. Главное: мы все люди. Один биологический вид. Человек сапиенс! И следовательно родня!
Старику уже за девяносто. В хорошую погоду его близкие выносят за калитку стул, и дед, накрыв колени лёгким одеялом, сидит на улице и здоровается с каждым прохожим. Это его последняя работа, её он себе назначил сам. Моё спасение — он сейчас занят, и я проношу мимо свою спасительную улыбку.
Так с улыбкой, наверно кажущейся со стороны идиотской, я и вхожу в приёмную гороно. Она оповещает и секретаршу, и всех ожидающих приёма: «Ну, братцы педагоги, радуйтесь! В нашем полку прибыло!»
— Видимо, вы из тех, кого считают везунками, — сказал заведующий гороно, когда подошла моя очередь. Я думал, он издевается надо мной, а он продолжал: — Вакансий у нас ноль! В городе переизбыток педагогов, безработные занимают очередь. Ждут! Но вам повезло. Сегодня в двенадцатую вечернюю школу потребовали историка. Срочно! Вечером на первые уроки.
И это он называет везением? Да мне безразлично, где коптить небо — в городской школе или сельской, в обычной дневной или вечерней. Стоп! Сегодня ночью у меня уже были взрослые ученики — шутница-судьба не промахнулась, сон оказался в руку!
А завгороно повёл речь о задачах учителя. Наверно, так было положено — наставлять новичков. Он уткнулся взглядом в письменный стол и монотонно бубнил прописные истины, словно размазывал по тарелке невкусную жидкую кашу, так малыш оттягивает начало малоприятной трапезы.
— В общем, педагогика требует к себе добросовестного отношения. Так-с, что ещё? Ребятишек нужно любить. В вечерней особенные ребятишки.
Он сказал «ребятишки», и его голос потеплел. Он поднял глаза, голубые, круглые, жалобные, — заведующему до смерти самому хочется в школу. Я это понял сразу, но не разделил с ним его собачей тоски.
А я между тем уже работал в школе, да, да, был такой эпизод в моей пока небогатой биографии. Тогда всё прошло, как положено: я давал уроки, занимался классным руководством, даже провёл родительское собрание, и случилось это на последней практике, незадолго до выпуска, и длилось два месяца, показавшихся мне целой вечностью. Сколько времени с тех пор утекло в реке по имени Лета, но я, вопреки утверждению великого Гераклита, вхожу и вхожу в одну и ту же проточную воду. Уже в который раз в канун практики меня останавливает в институтском коридоре Ольга Захаровна Машкова, назначенная куратором нашей группы, останавливает и говорит:
Северов! Как вам известно, завтра у нас начинается практика. Я сочла необходимым вас предупредить: лично к вам я буду особенно строга. Наверно, вы неприятно удивлены? Объясняю: до меня дошли слухи, будто вы мой любимчик. И словно бы я вас выделяю среди своих студентов, захваливаю, ставлю завышенные оценки. Но это не так, и вы знаете сами. У меня никогда не было избранных, на моих семинарах, экзаменах все студенты равны. И тем не менее, дабы лишить сплетников пищи, я буду к вам не только строга, более того, я буду к вам придираться, ловить на мелочах! Держитесь!
Ольга Захаровна читала нам курс средневековой Европы, и многолетнее общение с той суровой эпохой наложило на неё свой отпечаток — в Машковой было нечто от норманнских женщин времён Эрика Рыжего. Казалось, если понадобится, она, так же как и его сводная дочь Фрейдис, оголив левую грудь, кинется с мечом на врагов, наводя на них мистический ужас. А сейчас, как ей почудилось, на её светлое честное имя бросили мрачную тень. Не представляю, кто сочинил эту сплетню, если сочинил на самом деле. Что касается меня, лично я не только прилежно учил её предмет, но и кое-что почитывал сверх институтской программы, на семинарах заводил с преподавателем спор, загадочный для других студентов, и таким образом выделял себя сам, без вмешательства Машковой. Мои однокурсники это осознавали и принимали как должное: если Северову ставят «отлично», значит он это заслужил. Но, видимо, кто-то не справился со своей вечно обозлённой завистью, а может, ему по собственной инициативе захотелось доставить ближнему пакость, и негодник запулил в студенческие массы лживый слушок, хотя я сам о нём не слышал ни слова. И он, слушок, помойной мухой вился вокруг Машковой и назудел ей эту пакость в ухо, та поверила и приняла близко к сердцу, и теперь успех моей практики повис и закачался на тоненьком волоске.
— Спасибо за откровенность, но я, извините за дерзость, не дам повода для придирок! Постараюсь не дать, — ответил я, бодрясь и скрывая тревогу.
На твёрдом, будто вырубленном из скандинавского валуна лице Машковой, с волевыми складками возле резко очерченных губ, в тёмных горящих глазах со скоростью машин промелькнуло одобрение — ей понравился мой ответ.
— Я принимаю ваш вызов, студент Северов! — сказала она, не поймёшь, в шутку или всерьёз, и удалилась с боевито вскинутой головой.
Практика началась, как в театре, с распределения ролей. Мы во главе с Машковой собрались в кабинете директора школы. Нас, практикантов, было шестеро: два парня и четыре девицы. Дележом занималась местный завуч, женщина средних лет, но, видать, с уже расшатанными нервами, её руки как бы автономно от хозяйки, занятой практикантами, сновали по столу, хватая лежавшие на столешнице предметы — карандаши, канцелярские скрепки и листки бумаги. Я будто бы ненароком уронил двадцатикопеечную монетку, поднял с пола и положил на стол под руки завучу. Те тотчас схватили двугривенный, сунули в карман жакета и умиротворённо затихли.
— Начнём с самого трудного класса, девятого «А», — сказала завуч, выслушав вступление Машковой. — Он — наша боль, зубная, печёночная, головная, для кого как. В этом классе учатся, если сей термин к ним применим, три несовершеннолетних уголовника. Да, да, они — уголовники не в переносном, в юридическом значении этого слова. Главарь этой шайки Фёдоров осуждён за грабёж, но, к сожалению, условно. Ибрагимов и Саленко всё ещё под следствием, однако приговор ни у кого не вызывает сомнений, и, увы, тоже условный. Им место за надёжной решёткой, но пока мы из-за этой троицы льём на уроках кровавые слёзы. И такую банду не выставишь за порог, не даёт закон, сами понимаете, — всеобщее среднее образование! Словом, практика в этом классе будет, мягко говоря, нелёгкой. Поэтому я советую направить в девятый «А» мужчину. Скажем, вас, молодой человек, — обратилась она к нашему однокурснику Василию Пастухову, а если точно, к большим кистям его рук, лежавшим на столе уверенно и мощно, утверждающим Васину уверенность в себе и достаточную физическую силу. А довершали эту впечатляющую картину голубоватый якорь, наколотый возле большого пальца правой руки, и синие волны тельняшки, видные в распахнутом вороте сорочки.