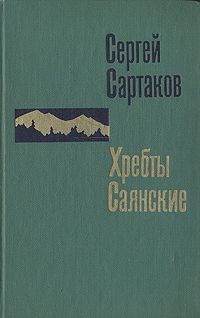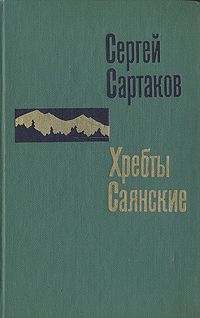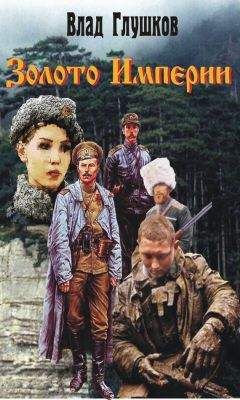В Иркутским, на бульварте,
Там музыка играла,
А милая Наташа
С извозчиком гуляла.
Хор сбился, раскололся. Одна часть уверенно и твердо закончила припев:
Динь-бом, динь-бом! Слышен звон кандальный,
Динь-бом, динь-бом! Путь сибирский дальний.
Другая, визжа и подсвистывая, подхватила припев пошленькой песенки:
Перстенек золотой,
Талисман мой ты будешь вечно дорогой.
Паренек молодой,
Чернобривый, черноглазый, удалой!..
— А ну тебя к черту! — кто-то густо сказал в толпе. Раздался смех. Песни оборвались, рабочие пошли
молча.
Лиза прибрала вагончик еще до восхода солнца. Несколько раз вытерла мягкой тряпкой письменный стол Маннберга, поправила подушки на постели, оторвала вчерашний листок от календаря.
Вагончик теперь одиноко стоял на путях. Маннбергу надоело жить в очень близком соседстве с рабочими, и он приказал его откатить от палаток. Рабочие раздражали своими песнями, шумом, разводили дымные костры и в котлах дарили вонючую солонину — это отбивало у Маннберга аппетит.
Лиза было уселась на ступеньке вагончика, но наступившая после ухода рабочих тишина теперь ей казалась тягостной.
«Пойти разве на полотно? — подумала Лиза. — Давне не была. Посмотреть, как работают».
Она закрыла дверь вагончика на замок и тихо побрела вдоль линии рельсов. Ее обогнал паровоз, толкавший перед собой десяток платформ, груженных балластом, и остановился в глубокой выемке. Лиза прошла мимо него. Весь лоснящийся от мазута, машинист крикнул из окна будки:
Эх, денек какой разгорается!
Хороший денек! — весело откликнулась Лиза.
Две блестящие полосы металла выбегали из глубокой выемки и, сделав поворот, вливались в другую, меньшую. Между ними, по откосам насыпи, чернели разбросанные шпалы, на рельсах стояла пустая вагонетка. Лиза мино вала и вторую выемку, ее дальнюю кромку и уселась на высоко срезанном пеньке.
Отсюда хорошо была видна дорога и на запад и на восток. К западу это была ровная дугообразная насыпь. В оврагах она расходилась широким конусом, в выемку вползала тонкая, легкая. Пестрели свежевыкрашенные указатели подъемов с набитыми на верхушках двухцветными табличками: правая сторона белая, левая. — черная. На старом месте по-прежнему дымил паровоз. Его не было «видно, только серое облако крутилось над лесом.
К востоку, неподалеку за выемкой, где сидела Лиза, ровная линия обрывалась. Здесь царил рабочий беспорядок. Грудами валялись шпалы; вкривь и вкось на насыпи лежали рельсы. Под откосами торчали полузасыпанные песком разбитые носилки. Рабочие шили путь. Широко размахиваясь и акая при ударе, забивали в шпалы костыли. Другие выравнивали верхний профиль пути, укладывали шпалы. Еще часть рабочих копала кювет.
К Лизе легко доносился их разговор, она видела их, узнавала знакомых.
Ребята, — выбрасывая из кювета лопатой песок, рассказывал Кондрат, — слыхали? Никифору в палатку запрещенную книжку кто-то вчера подбросил. И как получилось? Один он был в палатке, вышел по надобности, вернулся — на постели книжка. Выбежал сразу наружу — вокруг уж нет ни души. Вот история!
А чего история! — отозвался, втыкая лопату в землю, молодой парень. — Со мной интереснее было. Пошли мы вчера вечерком с Данилой в лесок, сороковку на вольном воздухе выпить. Этот старик Федос с нами увязался. Сидим, выпиваем, вонючей селедкой — чтоб ей провалиться! — закусываем. И чего хорошо я запомнил: уходя из палатки, в кисет табаку досыпал, кисет в пиджачишко сунул, в карман. Это к тому говорю, — пояснил он, — что знаю твердо: кроме кисета, в кармане ничего у меня не было. Ну вот, сидим, выпиваем. Вася к нам подошел. Я еще посмеялся: «Тебя, говорю, Вася, бутылка, должно, как магнитом притягивает. Ушли мы тихонько, а ты нас отыскал». Он тоже посмеялся. А потом полез я в карман за кисетом, закурить, — там листовка.
Брось врать-то, Левушка, — сказал Кондрат, а сам в усы улыбнулся.
Рассказчика тесно обступили рабочие.
Ей-богу, правда! — заверил парень. — Я, братцы, так и остолбенел. Ну откуда? Не подходил ко мне никто. Федос разве только. Спрашиваю: «Не ты, деда?» Он меня так перекрестил! Ясно, не он. Тут Вася полез в карман к себе. И у него то же!..
Вот язви тебя! — восхищенно выкрикнул из круга один рабочий. — Молодцы! Кто это только?
Глядим с Васей друг на друга, руками разводим, а оба в грамоте сильны, как телята в пляске.
Так и не прочли, что в листовках было написано? Эх!..
Кой-как разобрались. Упарились оба, пока прочитали… Данила еще помогал.
Лиза слушала разговор, улыбалась: ой, конечно же Васиных рук это дело! Ловко он их разыграл.
Ну, и чего же там было написано? — спросил Кондрат и пальцем поманил Еремея: — Подойди поближе, послушай.
А вот чего. Все на память я запомнил. «Товарищи рабочие! Вас заставляют работать за бесценок, кормят тухлым мясом, гнилой селедкой…»
Верно сказано! — дружным вздохом откликнулись
ему.
«…если кто заболеет — умирай! Зато набивают карманы…»
По местам давайте скорей! — крикнула Лиза рабочим. Она сверху заметила, как по выемке торопливо шагал
десятник.
Все тотчас взялись за лопаты. Только Кондрат проворчал:
Черт полосатый! Не дал кончить парню… Десятник прошелся, подозрительно поглядывая на рабочих, повертел головой направо, налево. Приказал:
Эй, вы! Четверо ступайте, с насыпи лишние шпалы все собрать, укатить на вагонетке вперед по линии.
Четверо рабочих во главе с дедом Еремеем пошли выполнять распоряжение.
Шпалы ложились на вагонетку ровно, плотно, со звоном.
Хватит, ну ее к черту, — сказал Еремей, сбрасывая на землю фуражку и утирая подолом рубахи пот с лица. — Вчетвером, не евши, пожалуй, и не укатишь. Лучше второй раз потом сходим.
Подали бы паровоз с платформой. Эвон в выемке так ведь, попусту пыхтит.
Ему сюда, под гору, тяжело спускаться.
Ребята, шутки шутками, а нам за выемкой, гляди ведь, шибко на подъем… Не вгоним в гору.
Ни черта! Пока под уклон — раскатим пуще… Выскочит.
Пошли?
Пошли!
Восемь рук уперлись в задний брус вагонетки. Рабочие, кряхтя, медленно, вершок за вершком, двинулись вперед. Набрав скорость, вагонетка пошла легче.
Эх, родная! Наддай! — кричали мужики.
Поехала в лес за орехами…
Разгонись, раскатись… Ну, милая!..
Айда, ребята, цепляйся, садись! В гору выедем. Во-во! Держись!.. Гляди, обратно, язва, не пошла бы.
Легче пошла, родные, легче!..
Отдыхай, опускай руки… Вагонетка ходко приближалась к выемке.
Эй-ге! Лизавета! — кричали теперь ей снизу мужики. — Спускайся, прокатим.
Во всей партии маннберговских рабочих Лиза была единственной женщиной. Однако, несмотря на это, ни один из самых беспутных парней, что называется «с бору да с сосенки», никогда не посмел заговорить с ней развязно. Лизу все любили и уважали. «Всем родная, — говорили о ней. — Наша!»
И многие всерьез называли ее дочерью.
Ну, скорей слезай сверху, доченька, — задрал бороду дед Еремей. — Верно, прокатим.
Ладно, ладно, — откликнулась Лиза й засмеялась. — Тоже силачи! Разве слезть мне да вам еще пособить?
Но-но, не смейся, угоним одни!..
Не конфузь нас, дочка…
Стой! — вдруг закричал Еремей. — Фуражку-то забыл, где шпалы грузили!
А чего орешь? Возьми да вернись, пока далеко не ушли.
И то вернуться, — согласился Еремей. — А не тяжело одним-то?
Не-ет, раскатилась здорово.
Теперь и на подъем сама выскочит.
Еремей подтолкнул еще раз вагонетку и побежал назад по шпалам.
Дядя Еремей, — крикнула ему Лиза, — не беги хлестко, обутки потеряешь!
Еремей не расслышал, на бегу оглянулся, махнул рукой и, придерживая ладонью сердце, пошел дальше скорым шагом. Вагонетка скрылась за откосом выемки.
Лиза посмотрела на Еремея. Вот он дошел до середипы насыпи, нагнулся, поднял фуражку, повернулся, увидел Лизу и помахал ей. Он что-то кричал, но слова плохо долетали.
Славный этот дед Еремей! Наладилась бы у него хорошая жизнь скорее!
Еремей шел по шпалам обратно, широко размахивая руками. Потом опустился на полотно дороги, между рельсами, стащил сапоги и стал перематывать портянки. Вдруг он запел заливисто, потряхивая бородой, покачиваясь всем телом. Недавно человек в Сибири, а слюбился с народом, с его песнями.
Звонок звенит насчет проверки —
Ланцов из замка убежал…
Лиза вполголоса ему подпевала:
По веревочной лестнице спустился…
Из дальней выемки, той, где пыхтел паровоз, вдруг выкатилась нагруженная балластом платформа. Она катилась очень быстро, под уклон, все набирая скорость. Еремей сидел к ней спиной, подвертывал портянки и распевал: