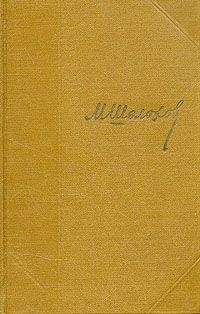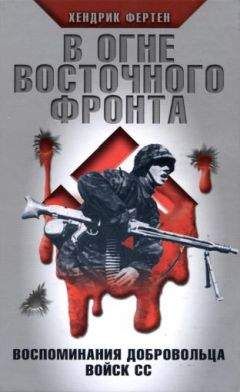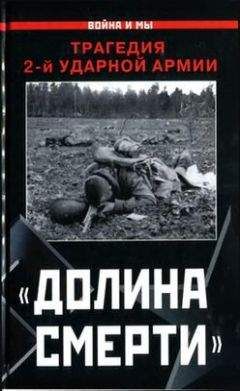— А ты какой? Святой во вшивой шинели, вон ты кто! Знаю я вас! Замуж выходи, то да се, а давно ты таким истовым стал?
— Нет, недавно, — посмеиваясь, сказал Григорий.
— А чего же ты мне уставы читаешь? У меня на это свекровь есть.
— Ну, хватит тебе, чего ты злуешь, дура-баба? Я же промежду прочим так выразился, — примирительно сказал Григорий. — Гляди вон, быки от нашего разговору с дороги сошли.
Примащиваясь на арбе поудобнее, Григорий мельком взглянул на веселую вдову и заметил на глазах ее слезы. «Вот ишо морока! И всегда они, эти бабы, такие…» — подумал он, ощущая какую-то внутреннюю неловкость и досаду.
Вскоре он заснул, лежа на спине, накрыв лицо бортом шинели, и проснулся только в сумерках. На небе светились бледные вечерние звезды. Свежо и радостно пахло сеном.
— Быков надо кормить, — сказала она.
— Что ж, давай останавливаться.
Григорий сам выпряг быков, достал из вещевой сумки банку мясных консервов, хлеб, наломал и принес целый ворох сухого бурьяна, неподалеку от арбы разложил огонь.
— Ну, садись вечерять, зовутка, хватит тебе серчать.
Она присела к огню, молча вытряхнула из сумки хлеб, кусок заржавленного от старости сала. За ужином говорили мало и мирно. Потом она легла на арбе, а Григорий бросил в костер, чтобы не затухал, несколько комьев сухого бычачьего помета, по-походному примостился возле огня. Долго лежал, подложив под голову сумку, смотрел в мерцающее звездами небо, несвязно думал о детях, об Аксинье, потом задремал и очнулся от вкрадчивого женского голоса:
— Спишь, что ли, служивый? Спишь ай нет?
Григорий приподнял голову. Опершись на локоть, спутница его свесилась с арбы. Лицо ее, озаренное снизу неверным светом угасающего костра, было розово и свежо, ослепительно белели зубы и кружевная каемка головного платка. Она, как будто между ними и не было размолвки, снова улыбалась, шевеля бровью, говорила:
— Боюсь, замерзнешь ты там. Земля-то холодная. Уж ежли дюже озяб — иди ко мне. У меня шуба те-о-оплая-претеплая! Прийдешь, что ли?
Григорий подумал и со вздохом ответил:
— Спасибо, девка, не хочу. Кабы год-два назад… Небось, не замерзну возле огня.
Она тоже вздохнула, сказала:
— Ну, как хочешь, — и укрылась шубой с головой.
Спустя немного Григорий встал, собрал свои пожитки. Он решил идти пешком, чтобы к рассвету добраться до Татарского. Немыслимо было ему — возвращающемуся со службы командиру — приехать домой среди бела дня на быках. Сколько насмешек и разговоров вызвал бы такой приезд…
Он разбудил подводчицу:
— Я пойду пешком. Не боишься одна в степи оставаться?
— Нет, я не из пужливых, да тут и хутор близко. А тебе, что ж, не терпится?
— Угадала. Ну, прощай, зовутка, не поминай лихом!
Григорий вышел на дорогу, поднял воротник шинели. На ресницы его упала первая снежинка. Ветер повернул с севера, и в холодном дыхании его Григорию почудился знакомый и милый сердцу запах снега.
* * *
Кошевой вернулся из поездки в станицу вечером. Дуняшка увидела в окно, как он подъехал к воротам, проворно накинула на плечи платок, вышла во двор.
— Гриша утром пришел, — сказала она у калитки, глядя на мужа с тревогой и ожиданием.
— С радостью тебя, — сдержанно и чуть насмешливо ответил Мишка.
Он вошел в кухню, твердо сжав губы. Под скулами его поигрывали желваки. На коленях у Григория примостилась Полюшка, заботливо принаряженная теткой в чистое платьице. Григорий бережно опустил ребенка на пол, пошел навстречу зятю, улыбаясь, протягивая большую смуглую руку. Он хотел обнять Михаила, но увидел в безулыбчивых глазах его холодок, неприязнь и сдержался.
— Ну, здравствуй, Миша!
— Здравствуй.
— Давно мы с тобой не видались! Будто сто лет прошло.
— Да, давненько… С прибытием тебя.
— Спасибо. Породнились, значит?
— Пришлось… Что это у тебя кровь на щеке?
— Э, пустое, бритвой порезался, спешил.
Они присели к столу и молча разглядывали друг друга, испытывая отчуждение и неловкость. Им еще предстояло вести большой разговор, но сейчас это было невозможно. У Михаила хватило выдержки, и он спокойно заговорил о хозяйстве, о происшедших в хуторе переменах.
Григорий смотрел в окно на землю, покрытую первым голубым снежком, на голые ветви яблонь. Не такой ему представлялась когда-то встреча с Михаилом…
Вскоре Михаил вышел. В сенях он тщательно наточил на бруске нож, сказал Дуняшке:
— Хочу позвать кого-нибудь валушка зарезать. Надо же хозяина угостить как полагается. Сбегай за самогонкой. Погоди, вот что: дойди до Прохора и скажи ему, чтобы в землю зарылся, а достал самогонки. Он это лучше тебя сделает. Покличь его вечерять.
Дуняшка просияла от радости, с молчаливой благодарностью взглянула на мужа… «Может, и обойдется все по-хорошему… Ну, кончили воевать, чего им зараз-то делить? Хоть бы образумил их господь!» — с надеждой думала она, направляясь к Прохору.
Меньше чем через полчаса прибежал запыхавшийся Прохор.
— Григорий Пантелевич!.. Милушка ты мой!.. И не чаял и не думал дождаться!.. — высоким, плачущим голосом закричал он и, споткнувшись о порог, за малым не разбил ведерный кувшин с самогоном.
Обнимая Григория, он всхлипнул, вытер кулаком глаза, разгладил мокрые от слез усы. У Григория что-то задрожало в горле, но он сдержался, растроганно, грубовато хлопнул верного ординарца по спине, несвязно проговорил:
— Вот и увидались… Ну, и рад я тебе, Прохор, страшно рад! Что же ты, старик, слезу пущаешь? Ослабел на уторах? Гайки слабоватые стали? Как твоя рука? Другую тебе баба не отшибла?
Прохор гулко высморкался, снял полушубок.
— Мы с бабой живем зараз, как голуби. Вторая рука, видишь, целая, а энта, какую белые-поляки отняли, отрастать начинает, ей-богу! Через год уж на ней пальцы окажутся, — заговорил он со свойственной ему веселостью, потрясая порожним рукавом рубахи.
Война приучила их скрывать за улыбкой истинные чувства, сдабривать и хлеб и разговор ядреной солью; потому-то Григорий и продолжал расспросы в том же шутливом духе:
— Как живешь, старый козел? Как прыгаешь?
— По-стариковски, не спеша.
— Без меня ничего ишо не добыл?
— Чего это?
— Ну, соловья, что прошлой зимой носил…
— Пантелевич! Боже упаси! Зараз к чему же мне такая роскошь? Да и какой из меня добытчик с одной рукой? Это — твое дело, молодое, холостое… а мне уж пора свою справу бабе на помазок отдавать, сковородки подмазывать…
Они долго смотрели друг на друга — старые окопные товарищи, — смеющиеся и обрадованные встречей.
— Совсем пришел? — спросил Прохор.
— Совсем. Вчистую.
— До какого же ты чина дослужился?
— Был помощником командира полка.
— Чего же это тебя рано спустили?
Григорий помрачнел, коротко ответил:
— Ненужен стал.
— Через чего это?
— Не знаю. Должно быть, за прошлое.
— Так ты же эту фильтру-комиссию, какая при Особом отделе офицеров цедила, проскочил, какое может быть прошлое?
— Мало ли что.
— А Михаил где?
— На базу. Скотину убирает.
Прохор придвинулся ближе, снизил голос:
— Платона Рябчикова с месяц назад расстреляли.
— Что ты говоришь?
— Истинный бог!
В сенях скрипнула дверь.
— Потом потолкуем, — шепнул Прохор и — громче: — Так что же, товарищ командир, выпьем при такой великой радости? Пойти покликать Михаила?
— Иди зови.
Дуняшка собрала на стол. Она не знала, как угодить брату: положила ему на колени чистый рушник, придвинула тарелку с соленым арбузом, раз пять вытерла стакан… Григорий с улыбкой отметил про себя, что Дуняшка зовет его на «вы».
За столом Михаил первое время упорно молчал, внимательно вслушивался в слова Григория. Пил он мало и неохотно. Зато Прохор опрокидывал по полному стакану и только багровел да чаще разглаживал кулаком белесые усы.
Накормив и уложив спать детей, Дуняшка поставила на стол большую тарелку с вареной бараниной, шепнула Григорию:
— Брату́шка, я сбегаю за Аксиньей, вы супротив ничего не будете иметь?
Григорий молча кивнул головой. Ему казалось, никто не замечает, что весь вечер он находится в напряженном ожидании, но Дуняшка видела, как он настораживается при каждом стуке, прислушивается и косится на дверь. Положительно ничто не могло ускользнуть от не в меру проницательных глаз этой Дуняшки…
— А Терещенко-кубанец все взводом командует? — спрашивал Прохор, не выпуская из руки стакана, словно опасаясь, что кто-нибудь отнимет его.
— Убит под Львовом.
— Ну, царство ему небесное. Хороший был конармеец! — Прохор торопливо крестился, потягивал из стакана, не замечая язвительной улыбки Кошевого.
— А этот, у какого чудна́я фамилия? Какой правофланговым был, фу, будь он проклят, как его, кажись — Май-Борода? Хохол, такой, ту́шистый и веселый, что под Бродами польского офицера напополам разрубил, — он-то живой-здоровый?