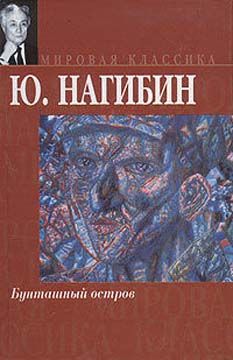Рахманинова окружили люди, среди них Наталия Александровна, импресарио, домашний врач. Они помогли ему распрямиться.
— Ничего, ничего, — говорит Рахманинов. — Наташенька, успокойся. Все правильно. Я так хотел…
— Носилки! — потребовал врач.
— Погодите! — властно произнес Рахманинов. — Всем уйти со сцены. Я должен поблагодарить публику… И попрощаться.
В его голосе — была такая воля, что все невольно повиновались. Взвился занавес. Рахманинов шагнул к рампе и поклонился на три стороны.
Занавес успели опустить, прежде чем он рухнул на помост. Появились носилки. Рахманинова уложили на них и понесли. Он посмотрел на свои руки — большие, прекрасные, измученные бесконечными кровоизлияниями в кончиках пальцев, трещинками, заливаемыми коллодием, дивные руки, принесшие столько высокой радости людям, и прошептал:
— Милые мои руки… бедные мои руки, прощайте!..
В блиндаже на береговом скосе бойцы готовились к атаке. Готовились, как к празднику. Мылись ледяной водой из Волги, брились иступившимися бритвами, меняли нательные рубахи. А вот у Ивана и рубахи чистой нет. Он тоже вымылся и сейчас растирался полотенцем. Его сильный, несмотря на старость, торс тронут многочисленными шрамами. Ушастый консерваторский солдатик с уважением разглядывал эту клинопись.
— Крепко же вы тронутый человек, дядя Иван! Эту вот где заработали?
— Эту? Еще в первую мировую, когда в штыковую ходил. Немец меня зацепил.
— А эта?
— Бандитская пуля. В коллективизацию.
— А на ребрах?
— Беляки пряжками от ремней учили, когда я им в плен попал. А сюда заработал, когда бежал от них, — Иван хлопнул себя по заду.
— А тут вот? — показал ушастый на темную полосу от плеча до лопатки.
— От землячка своего, что хлебушек прятал, — хмуро объяснил Иван. — Ладно, надоел! — Он встряхнул свою грязную, пропитанную потом тельняшку.
— Дядя Иван, возьмите мою, — предложил ушастый, — у меня запасная есть.
— Узенький ты больно, не налезет.
— Держи, сын полка! — и лейтенант кинул Ивану голубую трикотажную рубашку.
— Спасибо, товарищ лейтенант, охота в атаку чистым пойти. Сколько мы этой минуты ждали!
— Теперь мы его, стервеца, до Берлина погоним! — Пообещал пшеничноусый.
— Помните, ребята, как красная ракета — вперед! — сказал лейтенант и вдруг всхлипнул: — Господи, неужто дождались?!
Заверещал полевой телефон. Связной снял трубку.
— На линию огня! — скомандовал лейтенант.
И взвилась красная ракета…
Атака, в которую пошел взвод Ивана, растянулась на дни и недели. Бойцы одолевали одну линию вражеских укреплений за другой, забрасывали гитлеровцев гранатами, расстреливали из винтовок и автоматов, брали на штык, а порой вручную — зверьевым прыжком кидаясь с брустверов. Они неслись как вихрь, сквозь огонь и дым, сметая все на своем пути; их рты перекосились в незамолкающем крике «ура!». Воплощалась солдатская мечта о расплате, мечта о крыльях тяжелого, прижатого к земле оборванного солдата. Это и было «главное дело», о котором грезил Иван и совершив которое не страшно умереть…
И как они умирали! Расстрелянный в упор лейтенант продолжал идти на врага; убитый осколком в сердце, излившемся кровью сквозь гимнастерку, пшеничноусый солдат поднял немецкого артиллериста и задушил в воздухе. Как они убивали! Пропустив над собой тяжелый немецкий танк, Иван подорвал его гранатами; вчерашний консерваторский мальчик скосил автоматной очередью целый минометный расчет…
Против такого шквала невозможно было устоять — лопнула жила вермахта, началась повальная сдача в плен. Далеко не последним поднял руки командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Паулюс.
В доме умирающего Рахманинова Наталия Александровна разговаривала с врачом.
— Что я могу сказать? — Врач с профессиональной тщательностью вытирал полотенцем руки. — Это может наступить сегодня, завтра. Непонятно, как он вообще держался столько времени. Рак позвоночника скоротечной формы не дает таких отсрочек. Не-по-нят-но!..
— Что вы, доктор, — голос Наталии Александровны звучал будто издалека, — очень даже понятно.
Зазвонил телефон. Стройная, подтянутая, нисколько не потерявшаяся перед лицом смерти самого близкого и дорогого человека, Наталия Александровна сняла трубку.
— Что за люди!.. — пробормотал врач, складывая свой чемоданчик.
— Ирина? Не кричи так. Что-о? — Ты сама это слышала? Официальное сообщение? Девочка моя… — ясный голос дал трещину. — Я должна сказать об этом отцу, боже упаси, если… Все станции мира? Боже мой, какое счастье! А ну, повтори еще раз.
Она положила трубку, быстрыми шагами пересекла комнату и вошла в спальню Рахманинова. Дежурившая у его постели сестра тут же встала и вышла.
Рахманинов лежал на спине с закрытыми глазами. Заострившиеся черты предвещали скорый исход. Казалось, он спал. И Наталия Александровна заколебалась: стоит ли нарушать его сон, который может перейти в тихую безболезненную смерть, или же она обязана обречь его на последние содрогания жизни?.. Тихим, неокрашенным голосом, словно надиктовывая кому-то текст, она произнесла:
— Разгром немецких войск под Сталинградом… — Подождала и снова: — Разгром немецких войск под Сталинградом… — И опять: — Разгром немецких войск под Сталинградом…
И этот чуть слышный голос пронизал тьму, окутавшую сознание умирающего. Что-то дрогнуло в лице Рахманинова. Напряглись складки на лбу. Открылись глаза. Прояснели.
— Разгром немецких войск под Сталинградом, — не повышая голоса, проговорила Наталия Александровна. — Остатки шестой армии Гитлера капитулировали. Фельдмаршал Паулюс сдался в плен. Сталинградская битва выиграна Красной Армией. Говорят все радиостанции мира.
Рахманинов ничего не сказал, только слеза покатилась через щеку по длинной морщине. Худая рука высвободилась из-под одеяла и сразу нашла руку Наташи.
— Я дал слово Федору… Я там… там, Наташа!.. Ты меня понимаешь?..
— Да, милый.
— Я люблю тебя, Наташа… Я трудно жил, но сейчас, сейчас… Господи, колокола! Откуда колокола?..
По развороченной, словно вывернутой наизнанку земле Ушастый тащил смертельно раненного Ивана.
Иван открыл глаза.
— Не трудись, сынок… Всё… Слышь?..
Ушастый опустил Ивана на землю.
— Дожил… — сказал Иван и улыбнулся спекшимся ртом. Чуть приподнялся и произнес с выражением детского удивления: — А хор-р-ро-шая вышла у меня жизнь! — и откинулся, и перестал быть.
Ушастый стал копать могилу короткой шанцевой лопатой…
Над телом Ивана вырос рыжий холмик глинистой земли.
Ушастый — он сильно изменился за дни наступления, будто перескочил через возраст (если пощадит его война, он станет настоящим музыкантом, ибо наслушался небывалой музыки) — нашел фанерку и написал на ней что-то чернильным карандашом; воткнул в землю железную полосу и прикрепил проволокой фанерку.
Для памяти людей осталось: «Здесь лежит храбрый солдат Иван. Друг Рахманинова».
Две могилы в разных концах земли: Рахманинова на чужбине: высокий русский крест и надпись: «Сергей Рахманинов», в изножии цветы, и затянувшийся травой, ромашками холмик Ивановой могилы на сталинградской горестной земле; на фанерке еще можно разобрать его имя.
Тишина. И в нее упал удар колокола. Забили колокола. Незримые. Колокола неба, которое одно на всех жителей земли. Колокола победы над злом, искупления, прощения, примирения и не забвения, а вечной памяти.
Через несколько лет так оно и станет. Вот список рекрутов, назначенных болдинской экономией в 1833 году:
«Ефим Захаров — течет с ушей
Педьппев — рана в ноге
Капралов — желтью болен
Ананьев — палец левой ноги — крюком».
Кроме того, против каждого помечено «вор». Еще двое в списке были чисты от болезней и увечий, но один из них — Сягин — сбежал по дороге в Арзамас от отдатчика и скрылся в лесах.
Вот какие ратники украсили победоносное воинство русского царя. «Помещичьему» периоду жизни Пушкина мы обязаны не только суровыми крепостническими «Мыслями в дороге», но и горестно-упоительной «Историей села Горюхина» и незабвенным образом Ивана Петровича Белкина, подарившего нам пять бессмертных повестей. Как ни корежит гения — все во благо. (Прим. автора.)