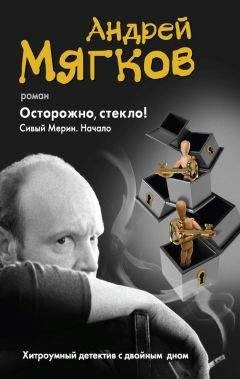— А как же! По-фронтовому, — хмыкнул водитель и не удержал улыбки, сразу превратившей его в озорного мальчугана. — Не волнуйтесь, товарищ майор. Я безаварийщик.
— Сам ты из Троицкого? — приглядывался Хворостов к водителю. Паренек мог оказаться соседским или даже родичем. Половина Троицкого — родственники.
— Нет, я транзитом, — солидно проговорил парнишка. Видно, нравилось заграничное, недавно усвоенное слово.
При въезде в Троицкое водитель, чтобы до конца услужить фронтовику, спросил:
— Вам куда?
— Спасибо, дружище. Я здесь сойду. Мне недалеко. Куришь?
— А как же! — И пояснил: — Работа такая. В сон бросает.
— Держи! — Хворостов протянул пачку сигарет.
— Трофеи наших войск и потери противника! — солидно определил парнишка. — Желаю в полном здравии встретить своих сродственников, товарищ майор, — и с места рванул задерганный, до последнего сустава расшатанный грузовичок. — Бувайте здоровы!
За войну Алексею Хворостову довелось много видеть смрадных руин, чадящих пожарищ, изувеченных садов, вытоптанных нив. Может, потому Троицкое показалось ему почти не пострадавшим, словно война и оккупация обошли его стороной, а родная изба в густоте разросшегося сада издали почудилась жилой и даже ухоженной заботливой хозяйкой. Как и раньше, цвели цветы под окнами, как и раньше, под стрехой ласточки слепили гнездо, как и раньше, чисто вымыты ступеньки крыльца.
На долю секунды Алексею подумалось: все страшное, что писала какая-то Ксюша, — выдумка, недоразумение, ошибка. Распахнется сейчас дверь, выбежит на крыльцо мать с радостным лицом, а за ней…
Алексей остановился, не в силах открыть калитку: вот когда сказались война, ранения.
На крыльцо никто не выбежал. Но Серко, старый верный друг Серко, перемахнув через плетень, с воем и визгом бросился к Алексею. Пес прыгал, стараясь лизнуть в лицо, ползал на брюхе, кружился волчком и жалобно скулил, не зная, как выразить радость: хозяин вернулся!
Онемевшей рукой Алексей погладил Серко по спине, почесал за ушами. Пес всем туловищем прижался к его сапогам, дрожал и повизгивал, словно жаловался.
Алексей открыл калитку, подошел к крыльцу и сел на первую ступеньку: в избу войти не мог. Пес лег у его ног и уставился на хозяина все понимающими глазами.
…Нет, не надо было ехать домой. Теперь все — и ступени крыльца, и два тополя под окнами, и колодезный журавель, — все, все твердит: «Помнишь?»
Серко поднял голову, насторожил уши, но сразу же успокоился, завилял лохматым хвостом: свои! К крыльцу подошла девушка, босая, в стареньком, застиранном и узеньком платьице, с косой, переброшенной через плечо. Алексей ее не знал. Но по тому, как дружески приветствовал ее Серко, понял: девушка — частая гостья в их дворе.
Девушка в нерешительности остановилась шагах в пяти:
— Здравствуйте, Алексей Федорович! С благополучным возвращением.
Хворостов молча кивнул головой. Не вовремя она пришла. Только Серко вел себя по-приятельски. Ласкался к девушке, пытался и ее лизнуть в губы. Гостью смутила холодная, почти враждебная встреча. Глаза стали жалкими.
— Вы меня не узнаете, Алексей Федорович? Я — Ксюша. Соседка ваша.
Только теперь Хворостов догадался, кто стоит перед ним. Та самая Ксюша, что написала письмо. Ему даже показалось, что он вспомнил маленькую замызганную девчурку, которая, свесившись через плетень, следила за ним изумленными глазами, когда он еще в рабфаковские годы ходил по двору и декламировал:
Пишу стихи, а в сердце драка,
И, может быть, в родные мхи
Меня прогонят из рабфака
За непокорство и стихи…
С трудом проговорил:
— Спасибо, Ксюша!
Девушка стояла в растерянности. Говорить о случившемся в доме Хворостовых слишком страшно, заводить же речь о чем-нибудь постороннем в такую минуту казалось кощунственным.
К крыльцу подошла пожилая женщина в наспех наброшенном черном платке. Ее Алексей узнал: соседка Степанида.
— Приглашай, Ксюша, Алексея Федоровича к нам в избу. Что тут сидеть… Он с дороги. И умыться надо, и чайку попить.
— Пойдемте, Алексей Федорович!
Хворостов устало поднялся:
— Благодарю. Только прежде я должен…
Соседки — мать и дочь — поняли его. С Алексеем остался только Серко. Все так же вопросительно смотрел пес, силился понять, что произошло в доме, где он вырос и прожил всю свою жизнь. Куда девалась старая хозяйка, сытно кормившая его? Почему так долго не возвращается старый хозяин, ушедший однажды из дому холодной морозной ночью? Что случилось с молодой хозяйкой, так ласково чесавшей его за ушами? И где мальчишка, изрядно надоедавший ему своими приставаниями и играми, но с которым было так весело? И почему, наконец, так долго пропадал молодой хозяин? А вернулся, сел на крыльце, курит, о чем-то думает и совсем не обращает внимания на старого Серко, которому было так одиноко и тревожно и который так обрадовался, дождавшись его.
На следующий день Ксюша повела Хворостова на кладбище. Могила Анны Ивановны была в самом конце деревенского погоста, где он незаметно переходил в молодую березовую рощицу. На могиле не поставили креста, не было и надписи. Просто небольшой холмик — как для ребенка — земли, обложенный дерном. В изголовье цвели мелкие голубоватые цветы — Алексей не знал, как они называются. Но по аккуратно уложенному дерну и по цветам понял, что за могилой ухаживают. Не спросил кто, и так было ясно — Ксюша.
— Дед Григорий крест сделал дубовый, хороший. Но мы с мамой решили до вашего возвращения не ставить… — И почему-то покраснела густо, по-детски.
Несколько дней Алексей Хворостов ходил по Троицкому, беседовал с односельчанами. Задавал один и тот же вопрос: что известно о судьбе Федора Кузьмича?
Разные были ответы. Одни говорили, что старый кузнец замерз на шоссе, когда ночью ушел из Троицкого. Другие предполагали, что он подался в Брянские леса к партизанам, пригодилась, видно, старая конармейская хватка. Третьи утверждали, что в ту зиму в городе был взорван клуб строителей, где гитлеровцы веселились. Бомбу в клубе бросил неизвестный старик-партизан, и похоже по всему, что то был Федор Кузьмич Хворостов.
2
Не узнав ничего определенного, Алексей Хворостов поехал в город. Секретарь горкома тоже ничего не мог сказать достоверного о судьбе кузнеца из Троицкого. За время оккупации в городе было несколько поджогов, взрывов и других диверсионных актов, но среди погибших подпольщиков фамилия Хворостова не значится. Может быть, и действовал, но на свой страх и риск.
— На Соборной площади решено воздвигнуть монумент в честь народных мстителей. Увековечим их имена. Если вы на кирпичном работали, то, может быть, помните старого рабочего Зингера.
— Петра Петровича?
— Петра Петровича. Он оказал большую услугу нашей подпольной партийной организации. Скрывал секретаря обкома. Погиб. И жену его гитлеровцы замучили. Этот факт нам известен. А вот об отце вашем никаких сведений пока нет.
— А где Тимофей Жабров?
Секретарь хрустнул побелевшими пальцами.
— Ушел. Но есть подозрение, что остался на нашей территории. Если не бежал на Запад, то все равно найдем. Нельзя примириться с мыслью, что такой зверь ходит по нашей земле. Найдем!
Теперь осталось самое страшное: пойти на зарой кирпичного завода. За Московскими воротами ничего не изменилось. Голубовато-пепельные булыжники шоссе, пыльная крапива и лопухи в канавах, внизу за речушкой полукругом уходящая к горизонту поблескивающая на солнце железнодорожная колея.
Завод уже восстановили. По-старому густо дымила труба гофманской печи, бойко и голосисто стучал пресс. Только глину теперь брали из другого, нового карьера. А их старый зарой обнесен забором. Еще в горкоме Алексею рассказали, что ждут приезда из Москвы государственной комиссии, которая подсчитает, сколько тысяч, а может быть, и десятков тысяч советских людей погибло на зарое.
И среди них…
Сняв фуражку, стоял Алексей Хворостов над зароем. Не думал он, что судьба так жестоко приведет его туда, где светло и весело начиналась его рабочая жизнь, где он написал первое свое стихотворение:
Нас на зарое
Веселых трое,
Роем мы глину
И возим вверх…
А враги зарыли в мокрую глину его счастье!
Молодые веселые девчата, работавшие у пресса, перебрасывались шутками, смеялись, пели. Порой высокий, сильный, по-деревенски крикливый голос вырывался из хора:
Летнее белесое солнце высоко стояло в просторном небе, и разогретый воздух пчелино звенел медовым звоном. Как и раньше.
Сказал ли кто девчатам, что за офицер стоит у зароя над братскими могилами погибших, или сами догадались, но только смолкли. Простучал, поперхнулся и остановился пресс. И вдруг неожиданный, в неурочное время, раздался гудок. Низкий, густой, тревожный, он стлался над зароем, над новыми карьерами, над лугом, темневшим густотравьем. Ребята, копавшие глину, побросали лопаты и сняли кепки. Молча, как в карауле, стояли и смотрели в сторону зароя.