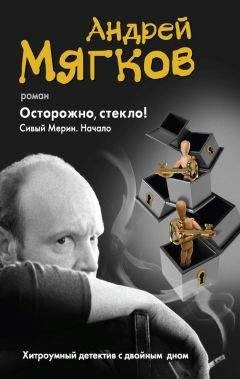— Вот уйду в отставку, отправлюсь в Сочи, на Рицу, на Ахун-гору, шашлыки буду есть, цинандали попивать да читать сочинения господ Потехина или Златовратского.
Полуяров подумал, что изрядно устал человек, раз обуревают его такие мечты. Спросил с сочувствием:
— Много приходится работать?
— Дело, собственно, не в работе. Командировки надоедают. Хотя в песне и поется: «Сердце, тебе не хочется покоя», но, согласитесь, поезда, пересадки, гостиницы, столовки — не сахар. — И чтобы стряхнуть одолевшую усталость, предложил: — Как вы насчет чайку?
— Благодарю! Два стакана выпил.
— Два стакана не в счет. Бог троицу любит. Я уже заказал. Как вошел в вагон — первым делом о чае договорился. Чтобы покрепче да погорячей. А что делать прикажете! Пиво мне нельзя — почки, водку тоже врачи решительно из рациона исключили, даже на Новый год. Чаем только и спасаюсь.
В купе заглянула недовольная проводница в белом переднике с подносом в руках:
— Это вы среди ночи чай вздумали пить? Вам два стакана?
— Четыре! И повторить придется.
С оскорбленным лицом, еще не привыкшая к чудачествам пассажиров, молоденькая проводница молча поставила на столик четыре стакана чаю в мельхиоровых эмпээсовских подстаканниках, отсчитала восемь пакетиков с рафинадом, буркнула согласно инструкции:
— Приятного аппетита!
Полковник Титарев достал из портфеля пачку печенья.
— Эх, жаль, лимончика нет. А то бы знатно почаевничали.
Предвкушая удовольствие, помешивал ложечкой в стакане. Но лицо оставалось таким же старым, больным. Полуяров спросил:
— Устали?
— Есть немножко, — признался Титарев. — Утомительное дело — в дерьме копаться.
Только теперь Полуяров обратил внимание на эмблемы на погонах полковника.
— Военный трибунал?
— Около. Прокуратура.
— Признаться, меня всегда интересовала судебная практика, — заговорил Полуяров. — Хотелось познакомиться, так сказать, с тылами жизни, с ее изнанкой. Любил читать речи Кони, Крыленко, Вышинского…
— Вот, вот! — насмешливо закивал головой Титарев. — «Дело корнета Елагина», «Дело Ольги Палем, обвиняемой в убийстве студента Довнара», «Убийство коллежского асессора Чихачева» и в таком духе. Приятно валяться на диване и читать избранные речи адвокатов, где и блеск логики, и удивительное проникновение в сокровенные глубины человеческой психологии, или детективный роман, в котором работники уголовного розыска изображены такими милыми, обаятельными и высококультурными людьми, что просто хочется, чтобы они тебя арестовали.
— Признайтесь, есть и в этом жанре занятные книжонки.
— Именно книжонки, — усмехнулся Титарев. — Попадаются и они мне в руки. Прочитаешь пять страниц такого романа и скажешь: «Здорово!» Вторые пять страниц читаешь уже молча. А на пятнадцатой странице швыряешь книгу в угол: «Черт знает что!»
— Уж слишком придирчивый вы читатель.
— Даже снисходительный. Дело выеденного яйца не стоит, а берет его литературный ремесленник и раздувает кадило на триста страниц. Вот почему теперь, когда я смотрю на толстый зад плодовитого романиста, мне все становится ясным. Нет, как хотите, а лучше, чем Федор Достоевский изобразил достопочтенного Порфирия Петровича, еще никто не написал о следователе. Он для молодых работников юстиции второй юридический факультет.
— Классика! Может быть, Достоевский и вселил в меня интерес к судебным делам.
— Скажу по совести: не жалейте, что другой дорогой пошли. Ничего хорошего в нашем деле нет. Вы только раз попробуйте покопаться в грязи, крови, подлости, предательстве. Другую песенку запоете. Сам хорошо понимаю — нужно кому-то. А все-таки… Вот на днях закончили мы одно дело. Судили предателей и изменников Родины. Да об этом в газетах информация была. Не читали?
— Как-то пропустил, — признался Полуяров.
— Понимаю. Какие на пляже газеты! Волны, брассы, глиссеры, преферансы. А нам по долгу службы приходится с отребьем возиться. Для других война давно окончилась, а мы, да, пожалуй, еще саперы, все воюем. Они мины обезвреживают, неразорвавшиеся бомбы и снаряды из земли выковыривают, а мы разную гнусь на чистую воду выводим. Работенка не из приятных, да ведь нужная. Разве можно спокойно жить, когда где-то в щели враг притаился. Вот и разминируем.
Титарев, прихлебывая, с наслаждением пил горячий и — что уж совсем удивительно для поезда — крепкий чай. Видно, проводница сразу сообразила, что имеет дело со знатоком, и заварила чай свежий. Чтобы поддержать разговор, Полуяров спросил без особого, впрочем, интереса:
— Важный процесс был?
— Как вам сказать? — вздохнул полковник. — Такие процессы уже были и, вероятно, еще будут. Судили группу изменников, предателей, полицаев, карателей. Сброд, потерявший всякий человеческий облик. А сколько лет они жили среди нас, ходили по нашим улицам, ездили с нами в трамваях, в парках культуры и отдыха прогуливались. Подумаешь — даже оторопь берет!
Титарев устало вытер носовым платком покатый лоб, покрывшийся чайной испариной.
— Тридцать лет работаю по этой части, много всяческой дряни повидал, а не перестаю удивляться, какое порой мизерное, незначительное обстоятельство может пустить под откос жизнь человека. Вот и сейчас. Судили мы шестерых. Следствие установило, да подсудимые и сами признались: предавали, пытали, вешали и расстреливали невинных советских людей, женщин, детей. Были среди них и убежденные враги нашего народа, нашего государства. Были и люди слабые, которых самая заурядная трусость привела на путь измены и предательства. Не будь, скажем, войны, жил бы такой человечишко тихо и смирно, как тысячи других, работал, ходил в кино, выпивал в выходной по маленькой. Обыватель, как раньше говаривали. А тут война! Попал человекоподобный на фронт. Огонь, стрельба, кровь, смерть. И струсил. Кому охота умирать! Поднял руки: авось уцелею. Попал в плен. Голодных, разутых, раздетых, израненных, погнали их гитлеровцы в тыл. Кто упал — пуля в затылок! Кто отстал — пуля в затылок! Кто в сторону шагнул — пуля в затылок! История известная.
И вот начинается у этого человечишки, по-модному говоря, эскалация страха. На первый план выступает, все оттеснив и подавив, одно желание — выжить! А как выжить? Надо идти к немцам работать за лишнюю миску баланды. Вначале только работает: грузит, убирает, носит. Потом, пообвыкнув, делает все, что ему прикажут: хоронить — хоронит, стрелять — стреляет, вешать — вешает!
Так и те, которых мы недавно судили. Расстреливали, истязали, вешали советских людей. А если разобраться, из-за чего совершали свои страшные преступления, за что родину предали? Из-за миски вонючей баланды. Вот что страшно.
Титарев замолчал. Чай допит. Сидел, откинувшись на спинку дивана, закрыв глаза. Заговорил устало:
— Но был среди подсудимых один тип в некотором роде идейный, если можно это благородное слово отнести к такому извергу и подонку. Я, доложу вам, теорию Чезаре Ломброзо не признаю и вся его антропологическая школа — чепуха естественнейшая, но, глядя на этого выродка, скажу по секрету, засомневался: а вдруг прав итальянец? Уж очень соответствовала отвратная внешность подсудимого его страшным деяниям. Вот даже сейчас вспоминаю его, и то жуть берет. Должен вам сказать, что за всю жизнь я лично ни одного человека не расстрелял и не повесил. Приговаривать к смертной казни приговаривал, но сам, естественно, в исполнение приговоры не приводил. А тут было такое чувство, что собственными руками повесил бы подлеца. Один внешний вид его чего стоил. Посмотрели бы вы на его «стигматы». Круглые мертвые глаза, хищный хрящеватый нос, железно сжатый безгубый рот.
Полуяров подумал: как странно! Когда-то давно он знал человека, у которого тоже были мертвые круглые глаза, хрящеватый нос, железного склада безгубый рот.
На лице Титарева горько-брезгливое выражение, видно, вспоминать ему больно и противно.
— Страшный человек. И враг. Убежденный. До мозга костей. До конца! Враг жестокий, без малейшего проблеска совести, жалости, чести. Ворвались гитлеровцы в сорок первом году в город, и он в первый же день без зова, по собственному желанию явился к их военному коменданту: «Хочу послужить немецкому командованию. Приказывайте!»
Характерная деталь. Явился он к новым хозяевам, как на праздник: в праздничном новом костюме и даже галстучек пестренький напялил.
Полуяров неожиданно вспомнил: пустынная, вечереющая улица. У своего дома стоит Тимофей Жабров. В новом костюме. При галстуке. И ждет. Кого он тогда ждал? Неужели немцев? Неужели это о нем, о Тимофее Жаброве, рассказывает случайный попутчик полковник из военного трибунала? Не может быть! Мистика какая-то!
А Титарев продолжал:
— Гитлеровцы ему сразу не поверили. Уж слишком охотно он пришел, и в первый же день: «Приказывайте!» Не подвох ли? Не заслали ли коммунисты к ним своего человека? Стали проверять. И так, и этак. И по прошлым делам, и по новым. Обмана нет. Черными делами заслужил он у фашистов полное доверие. Выдавал коммунистов и комсомольцев, сообщил в гестапо адреса всех советских активистов. Список их заранее составил в дни, когда только война началась. Уже тогда стал готовиться к новой службе. Сам пытал, сам и петли на шеи набрасывал. Ничем не гнушался. Фашисты его поощряли, награждали. В полиции видным чином стал.