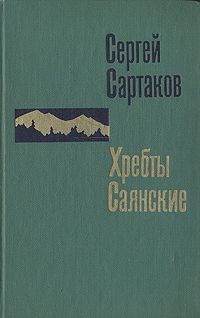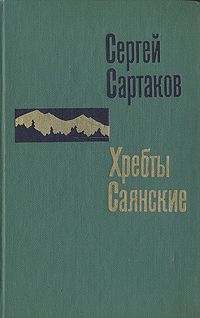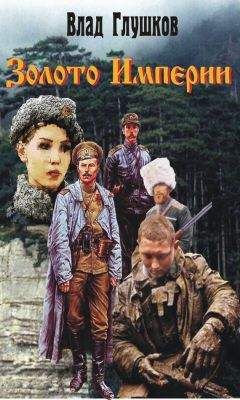Побегу к Ивану Максимовичу, Клавдею покличу, надо сказать ей, — проговорила Дуньча. — Не рассказал бы кто прежде. Фельдшер из больницы Лакричник со мной рядом стоял, видел…
В зыбке замахал ручонками ребенок.
Пойду, пока не проснулся совсем оглашенный этот, — глянув на зыбку мимоходом, сказала Дуньча.
Аксенчиха встала в дверях.
Куда ты? Стой, не ходи!
Это почему это? Сама же Лизка просила, — подтыкая выбившуюся из юбки кофту, проговорила Дуньча. — Я хотя и в злобе на Лизку, а чего же не сказать ее матери?
Ей еще сердце терзать! Мало ей в жизни горя досталось… Подождать надо, — может, тут морока какая, ошибка…
Морока? — усмехнулась Дуньча. — Хорошая морока, когда своими глазами я видела!
Иди, иди, Дуньча! — подбадривал ее Григорий. — Чего же не рассказать, коли сама видела. Пусть знает…
И верно, не надо б до поры ей рассказывать, — заговорила Груня, волнуясь. Она подумала, как замрет сердце матери, когда услышит такую страшную весть.
Может быть, зря взяли. Бывает и так. Посидит денек, и выпустят, — поддержал ее Ваня.
Нет, пойду расскажу, — упрямо повторила Дуньча.
Она хотела пройти мимо матери. Но та вдруг так толкнула ее в грудь, что Дуньча отскочила чуть не на середину избы. Аксенчиха заохала и ухватилась обеими руками за поясницу. Перетерпев самую острую боль, она напустилась на Дуньчу:
Я тебе пойду, я тебе пойду! Попробуй только пойди Да скажи! Ты меня знаешь, какая я… Прикуси свой язык, забудь и думать!
Григорий встал с постели, в недоумении глядя, как это вдруг оздоровела старуха. Разбуженный перебранкой, разревелся ребенок. Аксенчиха кричала на дочь:
Тебе только бежать куда! Возьми-ка вот, успокой его. Мать ты ему или посторонняя! Ребенчишка весь день криком исходит, а она, разъязви ее, по соседям подолом бьет! Теперь тоже наладилась… Ну! Я тебе сколько раз повторять еще буду? Бери ребенка на руки…
Дуньча нехотя отступила. Заложив руки за спину, вышел вперед Григорий. Он остановился перед Аксенчихой.
Ты доколе это, старуха, на жену мою будешь покрикивать? — выставив плечо, спросил он.
Тебя еще не спросила, — отрезала Аксенчиха. — Пока ума не наберется.
Вот. А я тебе говорю, чтоб это в последний раз я слышал, — гордо и с расстановкой сказал Григорий. — Хватит тебе! Не ты теперь хозяйка в доме, а я да жена моя. Ты вот крикни только на нее еще…
Я не только крикну, я ей и веревкой спину прочешу, — в руках у Аксенчихи откуда-то появился чересседельник. — Нет своего ума, пусть матерний слушает.
Ваня взял жену за руку и тихонько вывел из дому.
Что это за жизнь?
Аксенчиха гремела по-прежнему, словно все нездоровье ее как рукой сняло:
Терпела я, терпела, да уж дальше и некуда. Не покоритесь — вон от меня убирай геся!
А чего кориться-то? — тряся на руках плачущего ребенка, крикнула Дуньча.
Жить по-человечески, вот чего…
Может, тебе костью в горле пришлось, что Дуньча про Лизку Клавдее рассказать вздумала? — вплотную к Аксенчихе подошел Григорий. — Так не твое это дело. Я — муж, я ей разрешаю. Она не скажет — я расскажу.
Попробуй, попробуй, — обомлела Аксенчиха, — пойди расскажи.
И пойду. — On протянул руку, чтобы отстранить тещу от двери.
Не трожь! — угрожающе сказала старуха.
Уйди с дороги! — взял Григорий ее за плечо.
Пойдешь?
Пойду.
Нет, не пойдешь!..
Она взмахнула чересседельником и наотмашь, по чем попало, стала хлестать Григория.
Лакричник так и не дождался посыльной от Ивана Максимовича. Прошло много времени после того разговора, а никто его не звал.
«Эх, зря я тогда не вернулся, — соображал Лакричник. — Обманул мои расчеты, паршивец… Из рук упустил, прямо из рук. Выходит, сплетни он не боится, сплетней его не возьмешь. Чем бы все-таки его ущипнуть?.. — И Лакричник радостно потер руки. — Напишу в Иркутск, генерал-губернатору! Вот это будет ему сюрприз! Там дадут делу ход. Нельзя не дать. Поджог да с человеческими жертвами… Пеняйте на себя, Иван Максимович! Не хотели поклониться Геннадию Петровичу — дело ваше. Теперь я сам обязан действовать».
Лакричник подошел к столу, отыскал пухлую тетрадь, в которую он, подобно тому как филателист наклеивает марки, записывал выуженные из разных словарей латинские цитаты и поговорки, отметил карандашом нужные ему сейчас и стал шарить в бумагах.
— Генерал-губернатору надо писать на гладкой бумаге, не как-нибудь, на линованной не положено, — шептал он, шурша листами. — Куда же я засунул транспарант?
Под руку попался черновик донесения, поданного им накануне в полицейское управление. Лакричник присел на стул и с удовлетворением прочитал его от начала до конца.
«Узнав из достоверных источников, — говорилось в донесении, — что Елизавета Ильина Коронотова, уроженка села Солонцы, сего Шиверского уезда, ныне арестована, и предполагая, что арест связан с раскрытием какого-либо свершенного ею преступления, считаю долгом своим sine ire et studio — то есть без гнева и пристрастия — сообщить также нижеследующее, лично мне известное. Два года тому назад Елизавета Ильина Коронотова обратилась ко мне за свидетельством на предмет того, что ею, Елизаветой Ильиной Коронотовой, рожден ребенок мужского пола, не доношенный до срока (natus abortus). Зная, что ребенок рожден нормальным и упомянутое свидетельство Елизавете Ильиной Коронотовой необходимо лишь для прикрытия супружеской измены своему мужу, Порфирию Гаврилову Коронотову, я ответил ей само собой разумеющимся отказом. После чего Елизавета Ильина Коронотова обратилась с подобной же просьбой к врачу больницы Алексею Антоновичу Мирвольскому. Не будучи тогда осведомлен о результате этого разговора, теперь предполагаю, однако, что, по совету Мирвольского, ребенок (hor-ribile dictu!) был зверски удушен ею, Елизаветой Ильиной Коронотовой, что подтверждается отсутствием ныне у нее на руках живого ребенка. Где он?
Отмечая блистательное раскрытие властями нового тягчайшего преступления Елизаветы Ильиной Коронотовой, приношу свои глубокие сожаления по поводу той непроницательности, благодаря которой мною своевременно не было раскрыто первое чудовищное злодеяние Елизаветы Ильиной Коронотовой. Прошу о нижеследующем: меня привлечь по настоящему делу в качестве свидетеля, а буде окажется, то в соответствии с уголовными законами — в качестве соответчика по делу Елизаветы Ильиной Коронотовой привлечь и врача Шиверской уездной больницы Мирвольского Алексея Антоновича, человека поведения вообще неясного.
К сему: фельдшер Шиверской уездной больницы Геннадий Петрович Лакричник-Пшикин».
— Написано весьма толково, — похвалил себя Лакричник. — Повертитесь теперь вы, Елизавета Ильинишна, а может быть, и вы, Алексей Антонович! Ну, а с вами, Иван Максимович, начнется сейчас разговор. — И Лакричник присел к окну составить текст доноса на шиверского купца Василева, виновного в поджоге собственного дома и в человеческих жертвах.
Лакричник затаил злобу на Лизу давно. Как посмела эта баба выболтать Мирвольскому, что он, Лакричник, предлагал ей дать ложную справку о мертворожденном ребенке! Ведь какой скверный оборот могло принять это дело: на волоске висела судьба! Хорошо, что Мирвольский спустил ему снова «в последний раз» и объявил только выговор. Но уж он-то этой болтливой бабе не спустит! И тут ей не вывернуться!
Мирвольского он ненавидел органически, как очень часто ненавидят все подленькие душонки честных людей. Ему казалось, что Алексей Антонович постоянно стоит поперек его пути: он, Лакричник, из-за него и не так уважаем, и не может взять лишнего полтинника или хотя бы двугривенного с какой-либо приезжей из деревни дуры крестьянки. Мирвольский все время недоволен им, его поведением, то и дело читает нотации да делает замечания. Подумаешь, наставник нашелся. И поэтому, начиная с давней истории, когда он подлил йодной настойки в лекарство Алексею Антоновичу, Лакричник все время стремился тем или иным образом мстить ему. Как упустить теперь возможность приплести Мирвольского к делу Коронотовой? Судить того, конечно, не станут, но тень на его репутацию будет брошена.
Иван же Максимович ударил Лакричника материально — он твердо рассчитывал получить с купца немалую мзду за добросовестное молчание.
Надо сказать, что денежные дела Лакричника были не блестящи. Казенного жалованья ему не хватало: трактир и заведение Ульяны очищали карманы в первые же дни после получки. Надо было добывать деньги на стороне. И тогда Лакричник затеял одну комбинацию, дававшую ему постоянный, хотя — увы! — невысокий доход.
С помощью обильного применения aqua fontana он стал приготовлять в больничной аптеке лекарства настолько жидкими, что ему мог бы позавидовать любой гомеопат. Больные глотали его пахучие пустые лекарства, капали в рюмки с водой такую же, только подкрашенную, воду и ожидали чудесного исцеления. Иногда оно наступало. Было ли это следствием «внушения» или организм сам по себе справлялся с недугом — Лакричника мало интересовало. Гораздо важнее для него было сбыть сэкономленные лекарства так, чтобы не узнал — сохрани боже! — Алексей Антонович.