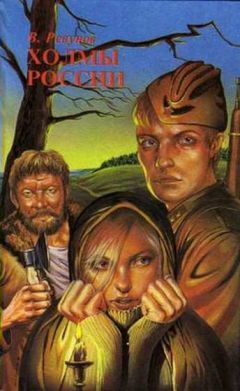Приемщик чуть налил Кате. Она притронулась к стакану губами и, смеясь, отдала его Фене.
Феня не отказалась.
— За хорошую жизнь! — сказала она. Выпила смело, прижалась губами к руке, заглушая так жгучую горечь а горле.
— Вот молодец ты, милая, — похвалил ее приемщик.
Какой-то вроде бы стон раздался среди простора. Послышались женские крики.
Весовщик выглянул из-за амбара.
— Что-то на путях, — с испугом произнес он и, подхватив свою фуражку, скрылся.
От амбара, и от телег, и даже из деревни бежали к станции люди, как это бывает, когда повеет бедой.
На путях стоял эшелон. Двери красных товарных вагонов были раскрыты. В глубине их — сумрак, в котором поднимались с соломы и двигались люди в военной форме, в красивых фуражках-конфедератках.
— Поляки, — сразу узнал Кирьян польских солдат.
Видел он таких же солдат под Брестом еще прошлой осенью, когда пучина войны захлестнула Польшу. Поляки отступали, бросали оружие, коней, оставляли свои города. Уходили от немцев, которые шли к нашим границам. А мы торопились туда, чтобы отдалить войну от них. Так две силы сблизились сошлись у роковой черты, за которой, в немецкой стороне, дымились скорбные зарева.
Кирьян запомнил и эти зарева, и крики женщин, и плач сирот над несчастной землей, откуда по ночам ветер доносил гул танковых орд, творивших что-то там, в зловещей тьме за Бугом.
Все это вспомнил сейчас Кирьян и даже почувствовал, как от эшелона, от сотен этих людей в вагонах, щемяще потянуло невыветрившимся запахом войны, тем особым запахом тоски в загорклой одежде.
Пленных перевозили куда-то на восток, в глубину чужой для них страны, с таким же, как и на родной им земле, солнцем, с такой же горячей полынью и быльииком в придорожном рву, в котором стояли мужчины и женщины, сбежавшиеся поглядеть на поляков.
У края рва охрана — наши солдаты в выгоревших гимнастерках, с винтовками, не строго, а так, для острастки покрикивали на тех, кто лез на пути.
— Куда, куда полезли? Иль глазами не видите?
— Застрелю! — кричал высокий, с веселым лицом солдат.
— Застрелишь — отвечать будешь, — заметил кто-то из бойких.
— Не лезь! Мужиков, что ли, не видела?
Нет преграды для взглядов: глядели друг на друга с одной стороны и с другой, где была воля, вольная земля вот этих людей, в глазах которых тлели скорбь, жалость и слезы перед чужой скорбью по потерянной земле.
Кирьян встретился глазами с молодым поляком. Мягкое широковатое лицо, голубые глаза тенила печаль.
Он было отвел взгляд и снова встретился с глазами Кирьяна, который стоял на откосе: не подходил близко, чтоб не в упор смотреть, а пошире. Так он видел, как мимо охраны пробегали к вагонам женщины и подавали полякам сало, хлеб, вареную картошку.
— Пасибо… Пасибо, — говорили поляки и улыбались растерянно: грустно было, что так их жалели. Жалели женщины. Молодые среди них были и красивые. Уйдут они в свои звенящие поля, манившие стогами ржи. Все так близко и недоступно, и неизвестно, когда разлученный войною откроется им берег родимый, никто не знает.
К поляку, на которого глядел Кирьян, подбежала Катя с хлебом и салом, завернутым в холстинку. Протянула узелок. Поляк вздрогнул и даже отступил от края.
Узелок взяли товарищи его. А он глядел на Катю и вдруг приблизился к ней, потянулся руками. Упал на колени перед ней на самом краю, за который нельзя ступить — нельзя домой, и нет дома, матери, невесты, ничего нет…
Так чем же жить? Что еще осталось? Кому молиться и верить?
Эшелон тронулся, а поляк все стоял на коленях. Глядел на Катю. Она подняла высоко руку, помахала ему, улыбнулась, как посветила ему в нелегком пути… Не все потеряно, пока есть людское, не все потеряно.
— Катя!.. Катя! — закричал Кирьян.
Едва она успела сойти с путей, как затряслась земля, загрохотал встречный эшелон, из-под которого вихрилась пыль и что-то свистело.
На открытых платформах горбились зачехленные танки, а в вагонах, опершись о перекладины в раскрытых дверях, стояли солдаты.
— Мама!.. Мама! — закричали из эшелона.
На опустевшие пути выбежала женщина — та, которая по письму ждала сына.
— Сынок!
Так и не увидела его, а только голос его услышала, Она стояла на путях, клонилась вслед. И вот далеко уже эшелон — слился в черное пятно.
* * *
Скорее домой, в тишину лесную, с этой встревожившей всех станции.
Никита размахивал плетью и хлестал коня, как врытый стоял в телеге.
— А ну, милый, давай рви, мать честная! — кричал он коню, который с раскосмаченной гривой скалился в ярости.
Успокоились, пошли шагом, когда за далью потонула станция, а впереди всколыхнулись раззноенные луга с парящими ястребами. Током воздуха ястребов заносило ввысь, и казалось, они обессилели, устали в этой жаре.
Сварой налетели слепни на коней. Жгуче прокалывали кожу. Кони пошли быстрее.
На ручье, от которого половина пути до дома, остановились в ольховой прохладе. Напились гремучей на камнях воды и тронулись дальше.
Хоть и порожняком ехали, а кони спешили, но только лишь к обеду добрались до хутора.
Из-за сосен показались избы, как в зеленом дожде, стояли они среди берез и лип, в которые врывалось солнце и, рассеянное листьями, сыпалось на крыши, на траву и на плетни, обнятые разомлевшими лопухами.
На дорогу выскочила собачонка, порычала, чтоб видели, как грозно чужих она встретит, а своих — веселым лаем, с которым и побежала впереди обоза. На телегах улыбнулись. Такое вот оно простенькое, родное-то, как проталинка, с которой раскрывается земля, чтоб зеленеть потом, и цвести, и пахнуть гречишными, липовыми и ржаными медами.
Никита и Кирьян распрягли и поставили коней в конюшне.
А теперь на отдых после дороги — спать куда-нибудь в прокладок.
— Завтра косить выходи, — сказал Никита.
— Себе хоть чуть подкосить.
— А колхоз тебе что — чужое? Вон скотины сколько.
— Ее, всякую скотину, морить жаль.
— За свою не спрашиваю, хоть она совсем околей.
А за колхозную голову снимут, и первому мне, как бригадиру. Понял?
— Травы хватает, а руками дерем. Косилку бы расстарались, — хотел так отговориться Кирьян и уйти.
Но Никита вспылил:
— Сдам я это бригадирство. Только возражения всякие и неприятности.
— Не нервничай. А то пропадем без тебя.
— Или не. по нраву? — со злом подхватил Никита слова Кирьяна.
— Я твой нрав не трогаю, и ты мой не тронь, — сказал Кирьян. — Мы ко всякой жизни приладимся.
— И мы не отстанем. Вот так. А за косилку платить надо. Кишка еще тонка. Без штанов находишься.
Никита глянул вслед Кирьяну.
«Дери руками — злей будешь».
Кирьян шел домой по тропке за дворами, где запаренные жарой стояли у пунь и хлевов истомленные малинники.
После бессонной ночи голову чуть пьянило желанием сна.
На повороте к дому-курмень ржи с неразлучными васильками. Глянул отсюда Кирьян на Угру. Синей косой подрезала она луговое раздолье. Сейчас бы с удочками куда-нибудь под куст. Так и потянуло к реке еще более сильное, чем сон, желание.
Дома мать с отцом сидят за столом. Катя рассказывает им новости: как хлеб сдавали, как глядели на поляков и как наш эшелон промчался.
— Если бы Киря не крикнул, так и раздавило бы меня, — сказала она для пущего интереса.
Гордеевна закрестилась со страхом перед богами.
Отдаленные от мира какой-то своей печалью, взирали они с икон.
Никанор сказал дочери:
— Кто ж на путях рот разевает? А еще в школе училась, грамотная, называется… Тетеря!
К столу подсел Кирьян.
Гордеевна подметила, как осунулся сын за ночку, даже бледность какая-то в щеках, будто что из души сушило его.
На столе поджаристые пышки, плавится на них масло. Сметана в чашке. Картошка печеная обсыпана мелко нарезанным луком. На полу у печи — самовар с поставленным на конфорку чайником в розовеньких цветочках…
— Вот и дома. Быстро это вы. А мы тут с матерью сенца подкосили. Завтра подкосим, да и возить надо, — сказал Никанор сыну.
— Завтра я с бригадой косить назначен.
Не раздумывая, Никанор сказал:
— Надо, так надо. И не возражай. Для себя управимся как-нибудь.
Кирьян разорвал пышку, обмакнул половинку в сметану.
— Слышал я, объездчик в лесничестве нужен.
— Нужен. А что, или желание есть? — поинтересовался Никанор.
Кирьян обмакнул в сметану другую половинку пышки.
— Не отказался бы.
Гордеевна прибиралась у печи и прислушивалась к разговору.
— Что ты, сынок? — с испугом глянула Гордеевна на сына и на мужа. — Из колхоза не пустят. Гомон-то какой пойдет.
— Государству служить кто это его не пустит? — погрозил кому-то Никанор.