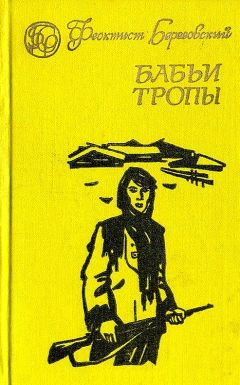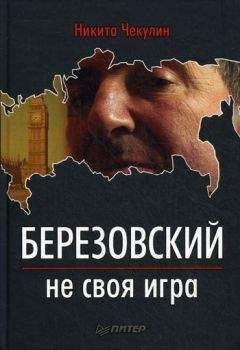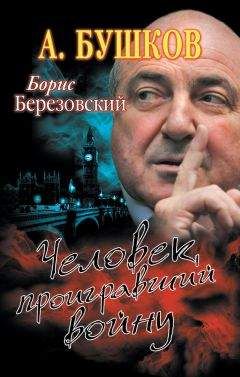— Ну, а чей вон тот дом? — рязанец указал пальцем на большой дом посредине деревни.
— Крестовик-то? Этот Гаврилы Терентьича Козырева — старосты здешнего. Вон тот дальний крестовик, что в левом порядке стоит, — принадлежит Ипату Харитонычу Вихлянцеву, первому здешнему богатею. А тот, который с просмоленной крышей и в правом приречном порядке стоит, тот Еремею Скобову принадлежит… Тоже богатей, Скобов-то.
— Небось, все работников держат?
— Нет, Будинский не держит. Да ему работник и ни к чему — не сеет. Гаврила Терентьич и Ипат Харитоныч держат. А как же! — старик опасливо оглянулся и продолжал: — Держат. Хозяйства-то у обоих большие… и посевы большие… Без работников им никак не управиться. — И, как бы спохватившись, он торопливо добавил: — Ну, только у нас ничего такого… чтобы насчет обиды горбачам… В этой деревне народ хороший. Можете оставаться без опаски…
Рязанец пристально посмотрел на хитроватое лицо старого бродяги, но ничего не сказал. Молчали и остальные поселенцы.
— Это я вам говорил, — продолжал Никита, — насчет тех ссыльных, которые посмирнее. Ну, а те, что побойчее, бродяжить уходят. Всю жизнь колесят по лесам да по степям. Зимой у мужиков в банях живут, вроде меня… Так и дохнут. А некоторые в города уходят. Спиваются. Под заборами дохнут. А бывают и такие, которые на золотые прииска бегут. — Он махнул рукой и добавил: — Тоже пропадают… даже наверняка…
Поселенцы задумались. На березовый лес да на деревню поглядывали. К вечерним звукам прислушивались.
За поскотиной, в белостволом березняке с мелкой, но густой уже и курчавой зеленью умолкали последние птичьи песни. Одиноко и тоскливо звучал голос бездомной птицы — кукушки, перекликавшейся с тонкоголосой пичугой, все еще просившей: «пить-пить!»
Оттуда, из леса, к землянке потянуло легкой и манящей прохладой, пропитанной запахом весенней березы и диких ирисов — по-здешнему называемых «кукушкиными слезами».
Трое мужиков неотрывно смотрели на лес.
А белокурый и курчавый парень, вытянув шею и подавшись вперед, прислушивался к гомону, доносившемуся от села, над которым стояло облако пыли. Там вдоль всей улицы по-прежнему заливисто тявкала собачонка, мычали коровы, блеяли овцы и звонко перекликались зазывные голоса баб и девок, встречавших своих буренок.
Черный корявый мужик, отрываясь взглядом от леса, посмотрел на село и спросил своих соседей:
— Ну, как, ребята… Останемся, что ль?
Рязанец почесал за ухом, тряхнул головой и решительно ответил:
— Ну, нет!.. Пропади она пропадом, эта сторона. Убегу!
А курчавый парень вскочил на ноги и весело крикнул:
— А я остаюсь, братцы. Все одно помирать… здесь ли, там ли — какая разница?
Загалдели мужики, заспорили.
Одни говорили о крепком деревенском житье и советовали остаться здесь, на месте приписки. Других тянули леса сибирские дремучие, степи широкие и жизнь вольная, с котомкой за плечами.
А старый бродяга посматривал на них смеющимися прищуренными глазами и в уме прикидывал, кому из них жить и кому пропадать.
Поговорили мужики, поспорили и решили: четверо бродяжить идут, один остается.
Простились со стариком Никитой, к деревне двинулись.
За рекой, над лесом, все еще полыхал лиловый закат. Но вечерние сумерки все гуще и гуще окутывали поля, луга, лес, речку, дворы и серые бревенчатые избы, крытые дерном. Угомонилась деревня. Затихли собачьи голоса. Бабы и девки кончали доить коров. Кое-где в избах наскоро ужинали и ложились спать.
Белокурый курчавый парень прошел улицей уж полдеревни — все к избам присматривался. Наконец выбрал новую избу и вошел в ограду.
Около сеней встретилась старуха с лукошком. Лицо у старухи, как засохший гриб. Под седыми бровями глаза слезятся. Старый синий сарафанишко — словно на клюку одет. Подошел парень. Весело гаркнул:
— Здорово, бабуня!
Старуха покосилась:
— Здорово…
— Где тут… который хозяин?
Старуха приставила к глазам руку козырьком:
— Зачем тебе хозяин понадобился?
— Дело есть… сурьезное.
Присмотрелась старуха к веселому пареньку, одетому во все серое и державшему в руках арестантские коты, спросила:
— Горбач?
— Нет, — ответил парень, — в работники пришел наниматься.
Заворчала старуха:
— Видать тебя… Тоже работник сыскался… Поселенец, поди?
— Он самый, бабуня. Да я смирный!..
— Не робки и мы, — сказала старуха, оглядывая парня с ног до головы. — Ступай в избу — там хозяин.
— А как его зовут?
Сурово взглянула на парня старуха, ответила:
— Филат. Иди… Нечего лясы точить!
Шмыгнул парень через сенцы. Вошел в избу, обежал глазами стены, завешанные хомутами, шлеями да уздечками. Перекрестился. Потянул в себя воздух, пахнущий парным молоком и простоквашей, и, обращаясь к мужику, гаркнул:
— Здорово, дядя Филат!
Рыжий, высокий и костлявый мужик сидел у окна за столом. А молодая краснощекая и чернобровая хозяйка с большими черными глазами собирала ужин. Мелькала в кути темным кубовым сарафаном, крутой грудью да полными плечами, оголенными из-под холщовой рубахи, висевшей на узеньких тесемках.
Поздоровался и Филат:
— Здорово! По какому делу пожаловал?
Парень оскалил мелкие белые зубы:
— В работники принимай, дядя Филат! Полдеревни прошел… никуда больше не пойду…
Засмеялся Филат:
— А откуда ты знаешь, что Филатом меня зовут?
— Дух на меня накатывает, — бойко заговорил парень, сверкая ровными и белыми зубами. — Вроде как с неба находит на меня… вот и угадываю людей… Сразу!
— Та-ак, — протянул Филат, посмеиваясь и раздумывая.
— А ежели мне не надо работника, на это что скажешь?..
— Все равно принимай. Я ведь много не запрошу…
— А сколько?
— Харчи и одежда — твоя.
— Не дорого, — ухмыльнулся Филат в рыжие усы и спросил:
— Как звать-то тебя?
— Степан… по прозвищу Ширяев.
— А из каких будешь?
— Раньше крестьянствовал. Ну и в городе жил… всяким рукомеслом занимался. А теперь поселенец. Из-под Тюмени я. Вот пришел в вашу деревню на поселение.
— Вижу…
Почесал Филат рыжую куделю около уха. Подумал. А затем деловито сказал:
— Ладно. Проходи… садись.
Молодой поселенец прошел к столу, сел на лавку. Бегал голубыми глазами по голым и круглым плечам хозяйки, скалил зубы и быстро говорил Филату:
— А что же не спрашиваешь насчет какого другого рукомесла? Какой, мол, работник буду?
Оплат рассмеялся:
— Знаем… Живут тут у нас в деревне два поселенца. Хозяева не обижаются на их работу. Будешь хорошо работать — не обидим. Харч не жалко. Одежонка тоже найдется. Рубля два на выпивку дам… за год…
Поселенец вскочил с лавки. Испуганно замахал руками:
— Не надо! Не надо, дядя Филат!..
Не поймет Филат:
— Чего не надо? Почему не надо?
— Денег не надо, дядя Филат!.. Не надо!.. Ну их к лешему, твои деньги!
— Да почему не надо-то? Обскажи толком.
— Укокаешь, дядя Филат! — вырвалось у парня.
Сдвинул Филат мохнатые брови, рыжую голову в костлявые плечи втянул. Хмуро бросил:
— У нас этого нет… не бьем… Можешь жить без опаски…
Поселенец все еще не верил:
— Неуж платить будешь, дядя Филат?
— Конечно, буду. На кой ты мне? — серьезно заговорил Филат. — Руки пачкать не привычны… В нашей деревне такого нет… чтобы людей убивать. Это те… богатые мужики на тракту… Те, верно, балуются — бьют. А в нашей деревне этого нету. У Вихлянцева Ипата Харитоныча поселенец четвертый год живет в работниках. Другой, у старосты Гаврилы Терентьича, уже два года прожил… И ни-ни! Боже упаси!.. Ничего худого не скажешь.
Молодой поселенец сорвал с головы свою серую шапочку и, тряхнув белыми кудрями, обрадованно воскликнул:
— Значит, по рукам, дядя Филат!
— Ладно, садись за стол… ужинать будем.
Вошла старуха. Покосилась на поселенца и, слыша, что Филат приглашает парня за стол ужинать, сурово сказала, обращаясь к парню:
— Поди сначала во двор, пыль стряхни с себя да рожу водой ополосни. Там, на дворе, водовозка стоит — бочка… Около нее и ополоснешься.
Парень проворно выбежал из избы, отряхнул с себя дорожную пыль, отыскал бочку с водой и умылся. Вытер лицо подолом рубахи и снова в избу вошел.
— Садись, — еще раз сказал ему Филат, разглядывая свои большие и заскорузлые руки, покрытые рыжим волосом.
А старуха добавила, обращаясь к парню:
— Да лоб-то перекрести… перед едой. У нас без креста не садятся за стол.