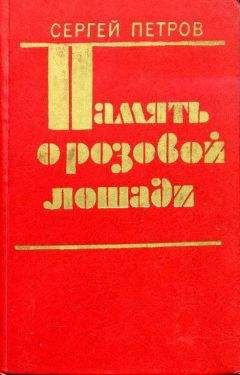Днем после налета мимо дома проходила колонна грузовиков с военными. Внезапно машины остановились, солдаты запрыгали из грузовиков, побежали к кюветам, а с неба, подкравшись откуда-то из-за солнца, стремительным коршуном упал серо-черный самолет, с воем низко прижался к дороге, — распластав крылья, отбрасывая вперед ломавшуюся в полете тень, — и будто задолбил по дороге клювом, разом повыбивав в асфальте множество белых дырок, а когда по нему запалили из винтовок, то он вновь высоко взмыл в небо, под солнце, и там растаял. Солдаты, отряхиваясь от пыли, полезли в грузовики — развеселились, посмеивались и без особой злобы грозили кулаками в ту сторону, куда ушел самолет.
Всем в доме выдали противогазы, и мы — взрослые и дети — носили их в сумках на боку с такой важностью, словно твердо поверили: теперь нас ничем не проймешь. Но вскоре вблизи упала первая бомба, в левом крыле дома воздушной волной выбило стекла — они еще долго хрустели во дворе под ногами. Не проходило и ночи, чтобы нас не будила сирена; в пустом углу у входной двери мать положила одежду, связанную простыней в узел, и сумку с продуктами — едва завывала сирена, пронизывая мозг ледяным холодом, как мы торопились вниз, ошалело хватая узел и сумку.
В подвале люди сидели удивительно тихо и чутко прислушивались, как гудит, трясется земля, то далеко от дома, то все ближе, ближе...
Дом пустел — жители эвакуировались.
Отец забегал только ночью, наскоро что-нибудь ел и прямо в одежде ложился спать, всегда не дольше чем на два часа.
Однажды отец появился днем, торопливо открыл дверь и не закрыл ее за собой, не вытер у порога подошвы сапог, чего с ним никогда не бывало — по натертому паркету протянулись пыльные следы.
На плече у отца стволом вниз висел автомат; такого оружия я раньше не видел: короткий, по сравнению с винтовкой, но массивный, тупорылый, с круглым толстым диском, явно тяжело набитым пулями.
— Скорее собирайтесь. Поедем в Ленинград. На станцию, — слова прозвучали как приказ.
Стремительность отца, необычный автомат и, главное, пыльная дорожка следов на паркете, как будто для отца уже не существовало нашей квартиры — это было неожиданно и тревожно. Мать кинулась к шкафу, открыла дверцы, взяла что-то из одежды, метнулась к буфету, но остановилась, с недоумением оглядывая комнату, и нервно засмеялась:
— Вот паникерша... Это ты все виноват — влетел как на пожар, — деловито спросила: — Что брать с собой?
— Самое необходимое. Поскорее!
У подъезда стоял небольшой грузовик — легкая полуторка; в кабине, рядом с шофером, сидел товарищ отца, тоже с автоматом, выставив его толстый ствол в открытое окно.
Отец поднял меня и посадил в кузов, помог взобраться матери, закинул вещи, затем и сам, ухватившись рукой за борт, запрыгнул к нам.
В кузове он вынул из кармана браунинг и подал матери:
— Чуть не забыл... На-ка на всякий случай.
Мать удивилась:
— Так серьезно?
Отец покивал, но как-то рассеянно: похоже было — он все к чему-то присматривается по сторонам.
Обсаженная высокими каштанами дорога — ровная, покрытая гладким асфальтом, отливающим синевой, — сразу подхватила машину и, как река на стремнине, понесла ее с большой скоростью. Грузовичок совсем не трясло. Отец положил на верх невысокой кабины автомат стволом вперед, наваливался на кабину локтями; мать стояла рядом, обняв его за спину, и встречный ветер трепал, косматил ее волосы.
Иногда за каштанами, скрывая поля, густыми, сумеречными зарослями переплетались кусты бузины.
Присев на корточках в углу кузова, я придерживался за борт и выглядывал из-за кабины, слегка щурясь от мягко ударявшей в лицо тугой и теплой струи воздуха; все время казалось: солнечная дорога там, где за высокими стволами каштанов светлеют поля, разливается широко и свободно, а у кустов бузины — сужается и темнеет, покрываясь тенью.
У зарослей бузины, темно поднимавшихся по краям дороги, я и увидел военного. Он явно отдыхал в ожидании попутной машины: сидел, привалившись спиной к каштану, обмахивал лицо фуражкой, как веером, а когда увидел наш грузовик, то сразу повеселел, поднялся, надел фуражку, быстро поправил складки на гимнастерке и легко перепрыгнул через кювет. Высокий, в сапогах, округлой плотностью обхвативших икры и так ярко начищенных, что они походили на лакированные, он, улыбаясь, поднял руку.
Машина стала притормаживать.
Дальнейшее закрутилось стремительно — я даже не успел испугаться. Отец рывком пригнулся к открытому окну, крикнул: «Гони!» — а круглый диск его автомата тяжело громыхнул по железу кабины.
Военный повалился спиной в кювет, фуражка слетела с головы и покатилась в траву под каштан, а ноги в начищенных сапогах раскинулись на асфальте. Всего лишь короткую очередь — пули в три — послал в него отец, как будто походя отбросил какой-то легкий предмет, случайно подкатившийся к ногам по дороге, и сразу, поведя стволом к бузине, дал автомату волю на полный диск; тут же по кустам забил и второй автомат — из окна кабины.
Две горячие струи металла упали в заросли бузины со злым шипением, словно в воду, и пошли, пошли полосовать кустарник. Сначала я и не понял, зачем они срезают пулями ветки, потом догадался — именно это нас и спасло...
В черноте зарослей светлыми мячиками запрыгали огоньки, и в борт машины, похоже было, с размаху швырнули полную пригоршню камней. Грузовик вильнул на другую сторону дороги и понесся, так тесно прижимаясь к кювету, что левые его колеса, казалось, крутятся в пустоте; справа кустарник успел поредеть, в просветах замелькали серые тени, и меня осенило: две длинные очереди, горячие пули из круглых дисков не дали немцам выбежать на дорогу там, где они готовились, и немцы торопятся к открытому месту, на простор — наперерез машине. Но поздно. Поздно! Машина их обгоняла.
Один немец все же выметнулся на дорогу чуть впереди грузовика. Жуткое любопытство, желание посмотреть на него толкнуло меня вперед, к борту, но мать с такой силой рванула за ворот рубашки, что горло перехватило удушьем, я упал на дно кузова, больно ударившись локтями, а над головой два раза оглушительно рявкнул браунинг.
На полном газу влетела машина на окраину Ленинграда. У заставы шофер резко затормозил, отец спрыгнул на землю, что-то сказал шагнувшему к нему красногвардейцу и махнул нам рукой: дескать, скоро вернусь. Его товарищ, встав на подножку кабины, заглянул в кузов, возбужденно спросил:
— Как вы там? — И добавил с веселым недоумением на лице: — Вот ведь — чуть не влопались.
Борт кузова с правой стороны пробили пули, из дырок остро щетинились белые щепки, и я, слегка ошалевший от случившегося, зачем-то старательно отдирал эти щепки и выбрасывал на дорогу; потом с удивлением заметил, что с угла чемодана начисто сорвана и валяется теперь в стороне массивная железная скоба.
Вернулся отец: веселый, с фуражкой, сбитой на затылок.
— Вот ведь гад, — засмеялся он. — Увидел его и подумал: ну, лейтенант, ждет, думаю, попутной машины в город. Потом смотрю, ах же ты гад, кобура-то с оружием у него с левой стороны на пузе и уже расстегнута. И сапоги немецкие... — отец обиженно поджал губы. — Как им не стыдно, сволочам? За дураков нас считают. Обнаглели... Ну да сейчас их там всех прихватят...
Мать с гордостью сказала из кузова:
— А знаешь, Коля, я, кажется, одного подстрелила вот из этого твоего нагана.
— О-о, да ты у меня молодец, как вижу, — отец усмехнулся, явно не веря. — Мы еще с тобой повоюем.
— Да нет, правда, кажется, я в него попала. Помню, он словно на острое что накололся... А вот лица его я не запомнила.
— Хари еще их рассматривать, — засмеялся товарищ отца.
— Ну да, конечно, на что он мне, — улыбнулась мать. — Но все же... Наверное ведь — попала.
Отец нахмурился и запрыгнул в кузов.
— Если и застрелила, то правильно сделала. — Сердито стукнул по кабине: — Поехали.
Позже, стоя на перроне вокзала у зеленого вагона, мать, договариваясь с отцом, что отвезет меня к бабушке и вернется назад, опять вспомнила, как стреляла из браунинга:
— Возможно, я и промахнулась. Но все равно — рука не дрогнула. Учти это, оформи документы, чтобы я смогла скорее вернуться.
— О чем речь, — ответил отец. — Конечно.
Но думаю, он уже тогда не верил в это, потому что перед отходом поезда крепко ухватил меня за локти, высоко поднял и, как взрослому, посмотрел в глаза:
— Помни меня. И береги мать.
Под окнами сильно громыхнул одинокий ночной трамвай и помчался дальше, рассыпая колесами такую частую дробь, словно куда-то опаздывал и, торопясь, высекал теперь искры из рельсов.
Город совсем примолк, слабо улавливалось только нервное гудение тока в проводах над трамвайной линией, и этот тонкий, нудно зудящий звук странным образом усиливал тишину: она казалась тягучей, вязкой, наваливалась усталостью. Я невольно расслабился в кресле, вытянув ноги и откинув голову на его низкую спинку; хотелось уснуть, забыться — все равно ничего не исправишь, — но внезапно меня поразила догадка, что главным в тот момент было не чувство горечи от смерти отца, а досада, жгучая, чуть не до слез, обида, что в жизни у отца с матерью все получилось так нелепо, нехорошо. Наверное, обида никогда и не проходила, таилась где-то в глубинах сознания, искала выхода. Но на кого обида? На отца? На мать? Почти все зная, об остальном догадываясь, всю жизнь я все-таки инстинктивно отгонял от себя серьезные раздумья об этом (речь как никак шла о поступках родителей) и до конца во всем так и не разобрался; подняв руку с телеграммой, я напряженно всматривался в черные буквы, как будто они могли сказать что-то новое, всматривался до ряби, до оранжево-красных кругов перед глазами... И тут с поразительной ясностью неожиданно увидел Московский вокзал в Ленинграде. Под высотой навеса над платформами все словно терялось: не только пассажиры, носильщики с тележками, но и киоски, сами поезда казались игрушечными, до смешного маленькими, а от того, что дневной свет, слабо пробиваясь сквозь толстое стекло навеса, окрашивал воздух прохладой зеленоватых сумерек, еще и походило, что стоим мы на дне огромного аквариума; все звуки из-за высоты навеса звучали с приглушенной гулкостью, глуховато прозвучал и станционный колокол, извещая об отходе нашего поезда; поезд должен был вот-вот тронуться, но мать и отец не хотели расставаться и долго-долго, почти вечность, неподвижно стояли, прижавшись друг к другу, а потом, в мягко толкнувшемся вперед вагоне, мать выглядывала в открытое окно, махала отцу рукой, а я просунул голову под ее локоть, упирался затылком в живот матери и тоже отыскивал глазами отца, сплющивая о стекло нос. Догоняя вагон, отец как будто плыл в толпе, разгребая руками людей, как воду, а поезд уже выходил туда, где зеленоватые сумерки обрывались белизной жаркого дня, где блестели под солнцем, разбегаясь в разные стороны, рельсы; в вагоне должно было бы стать светлее, но вместо этого наступила чернота, темень, вагон исчез, а мне показалось, что я вошел со свечкой в темный, заваленный старыми вещами сарай, иду по нему, прикрывая ладонью огонек свечи, чтобы его не задуло, при слабом свете постепенно узнаю вещь за вещью и мучительно, до боли во лбу и в висках, пытаюсь вспомнить, где же она стояла, когда была новой и находилась в комнате, при деле.