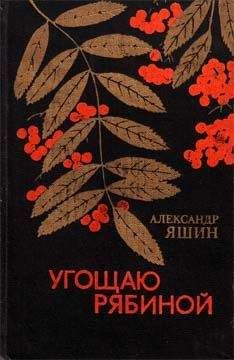Выделялся же из всех, вернее, выделял себя из всех, корреспондент, он же фотограф районной газеты «Дубовиковская правда» Семкин, мальчишка, которому казалось, что на земле существует только он один или, по крайней мере, он — главный, вследствие чего он всюду подавал свой голос, неизменно лез вперед и во что бы то ни стало, при всех обстоятельствах старался играть руководящую роль. Инструктор райкома партии Торгованов вынужден был следить за ним не меньше, чем за Смолкиной, чтобы все было правильно, постоянно обрывал его, одергивал, ставил на свое место, держал при себе.
Колхозники расступились перед гостями, затем, замкнув кольцо, двинулись вслед за процессией в избу.
Семкин, опередив всех, взлетел на крыльцо и успел несколько раз щелкнуть фотоаппаратом.
На крыльце Торгованов прошипел Бороздину:
— Хлеб-соль надо было приготовить. Что ж ты?
— Я думал, хлеб-соль — только для иностранцев, а она ведь наша, — ответил Гаврила Романович. — Кабы я знал… предупредить надо было.
Переступив порог конторы, Смолкина быстро осмотрела помещение. В первой комнате она увидела два письменных стола, стулья и табуретки в простенках между окон, радиоприемник в углу, старинный деревянный висячий телефон, похожий на скворечник, ленту обоев, на обратной стороне которой было напечатано во всю переднюю стену: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!» (ее напечатал по срочному заданию Бороздина все тот же сын Лампии, Колька), множество ярко раскрашенных плакатов с дородными, хорошо откормленными свиньями самых разных пород — и в стойлах, и на выгоне, и поодиночке, и попарно, и целыми стадами (плакаты эти были присланы на днях из отдела райисполкома с предписанием немедленно развесить их по всему колхозу на видных местах).
— Пожалуйте, Елена Ивановна, в мой кабинет, можно сказать, в председательский! — Бороздин почтительно распахнул перед нею дверь следующей комнаты. Смолкина сделала движение, что хочет раздеться. — Пожалуйте, пожалуйте! Там разденетесь, — настойчиво повторил Бороздин.
— Разденемся в кабинете! — сказал корреспондент Семкин и первый ринулся вперед.
Смолкина прошла в кабинет, за нею все прибывшие и председатель. Дверь закрылась. Приглашенные на встречу с гостьей колхозные служащие и члены правления, все одетые по-зимнему, остались топтаться в первой общей комнате наедине с собой. Разговаривали вполголоса. Кто-то восхищенно зашептал:
— Гаврило-то наш, как научился, видали? Что тебе директор театра или министр какой: «Пожалуйте да пожалуйте!» Молодец мужик.
— Да, нахватался образования.
Потом о другом:
— Три машины, вот как! Кто это с ней приехал?
— Разные, наши все, районные.
— Век живи, а всех своих районных начальников так и не распознаешь.
Лампия толкнула Нюрку в бок, горячо зашептала в ухо:
— Шубу-то разглядела? Кругом мех.
— Разглядела, — ответила Нюрка. — Трудодни-то небось не такие, как у нас, вот и мех кругом.
— А к свиньям тоже в шубе ходит? Али в ватнике?
— В белом халате.
— Она докторша, чи що?
— Профессорша.
— Ладно тебе, — обиделась Лампия, а немного помолчав, начала спрашивать снова:
— Шляпку-то видела?
— Видела. С вуалькой.
— С какой вуалькой?
— С сеткой.
— Сетка эта — мужиков ловить.
— Болтай больше! — сказала Нюрка.
— А чего болтать? И как только у нее уши не мерзнут под таким ведерком?
— В машине тепло, она в машинах ездит.
Лампия вздохнула.
— Вот это жизнь, бабы! — с завистью зашептала Пелагея. — Мне бы так устроиться.
— Спи больше, устроишься.
В комнате образовались группы по два, по три человека, разговоры возникали самые разные, то шепотом, то вполголоса. Кто-то спросил:
— Чего делать-то будем? Чего ждем?
Ему ответили:
— Раз позвали — значит, надо. Подождем.
— Нам торопиться некуда, чего-нибудь дождемся.
— А угощенье будет?
— Не без этого. Бороздин, наверно, уже водку разливает. Сейчас и тебе вынесет.
— Мне много не надо. И мало не приму.
— Помалу он не наливает, придется пить.
— А вправду, чего они там делают?
— Кто их знает. Наверно, ей хлеб-соль подносят, а может, сговариваются, чтобы все было на уровне. Только угощенье будет не здесь. На вечер ужин готовят.
— Нас-то позовут?
— А не позовут, так из колхоза выйдешь?
Пелагея наклонилась к Нюрке и к Лампии, спросила:
— Слышали, вечером угощенье будет.
Нюрка засмеялась:
— Доклад будет, а не угощенье.
Засмеялась и Евлампия:
— Вытри нос лучше!
Нюрка повторила:
— Для кого угощенье, а для тебя, Палага, доклад да выволочка.
Палага фыркнула:
— Тебя позовут, выскочка!
Так стояли, сидели и переговаривались довольно долго. Наконец дверь из председательского кабинета открылась. Первая вышла оттуда Смолкина — она была раздета, но в шляпке; за нею председатель и кое-кто из районных, но не все. Часть гостей задержалась в дверях, на пороге. Все остановились, словно ожидая, что сейчас скажет Елена Ивановна. А она действительно собиралась, видимо, что-то сказать — это было заметно, но пока раздумывала, с чего начать.
Нюрка, Евлампия, Пелагея уставились на нее во все глаза, рассматривали пытливо и в общем доброжелательно, не пропуская ни единой мелочи. Сейчас, когда Смолкина сняла пальто, ее можно было разглядеть всю, с головы до ног.
Елена Смолкина оказалась гораздо старше той, какая была на портрете, и даже сходство между этими двумя Смолкиными Нюрка обнаружить не смогла. Прежде всего, живая Смолкина была рыжая, а не черная, как в книжке, и не круглолицая, а сухощавая — какие уж там ямочки на щеках! И, конечно, на носу не оказалось никакой шадринки: на таком хрящеватом, сухом и сильно заостренном носу, как у нее, шадринке даже и уместиться-то негде. Все это показалось Нюрке очень странным, потому что она думала о Смолкиной как о молодой девушке, о своей сверстнице. Далее: на портрете Смолкина была в платочке, как всякая обыкновенная деревенская женщина, а на живой на ней красовалась шляпка. Ну и что ж такое, что шляпка? Ну и пускай, шляпка так шляпка! Правда, Нюрка ни разу еще в жизни не встречала напарниц в шляпках, но это, конечно, только ее, Нюркина отсталость, и ничего больше. А вот зачем она, Смолкина, не снимает свою шляпку? Пальто сняла, а шляпку не сняла. Так полагается, что ли? Ну ладно, не сняла так не сняла. Не в шляпке суть дела. Пускай и спит в шляпке, если так положено, хотя в хороших домах гости должны снимать свои шапки. Странно другое: почему это Смолкина по всему своему виду — и по лицу, и по одёже, особенно по одёже, не походит ни на деревенскую, ни на городскую женщину? Острые глаза бойкой Нюрки и ее подруг немедленно отметили все особенности костюма знатной гостьи, а женские язычки успели даже сделать и кое-какие замечания по нему.
На Смолкиной каждая вещь в отдельности была хорошей: шляпка фетровая, с черной сеточкой-вуалькой спереди и сзади, костюм из нетолстой серой шерсти, кофточка какая-то модная полупрозрачная, нейлоновая, что ли, и туфли — ничего, не плохие, хоть и не на «шпильках», но на каблуках вполне женских, не солдатских… По отдельности — хорошие вещи! А все вместе они как-то не увязывались, не согласовывались друг с другом ни в цвете, ни в фасоне, вещь к вещи не подходила. И к ней, к Смолкиной, ничего не подходило, то что называется — к лицу не шло.
Костюм на ней не сидел, а висел. Сквозь нейлоновую кофточку просвечивала фиолетовая не то комбинация, не то простая трикотажная майка. Вуалетка на шляпке не вязалась с учрежденческой строгостью пиджака и знаками отличия на нем. В общем, создавалось впечатление, что одежда Смолкиной приобреталась в разное время и по частям, в ларьках, распродающих уцененные товары. Особенно не к месту были сережки — замысловатые, позолоченные, со сверкающими стекляшками на фольге, броские, как мишурные украшения. Нейлон и мишура! — действительно ни к селу ни к городу. Потому и сама Смолкина казалась ни городской, ни деревенской.
— Выставка достижений! — шепнула Нюрка на ухо Лампии, пока Смолкина раздумывала, с чего ей начать разговор.
— Нам в этакое не нарядиться, — прошептала в свою очередь Евлампия.
— Когда надо будет, и нас нарядят.
— А чего она ведерко свое не снимает?
— Это тебе не полушалок.
— И губы не накрашены.
— Надо же!.. — иронически отозвалась на это Нюрка, но тут же одернула себя и подругу: — Ладно тебе, остановись.
Смолкина смотрела на народ долго и нерешительно, наконец нашлась что сказать и улыбнулась:
— Вот приехала к вам. Надо поразговаривать.
— Милости просим! — ответил кто-то из стоявших в избе.
— Поразговаривать можно.
Больше никто ничего не сказал, и Смолкина повернулась к Бороздину: