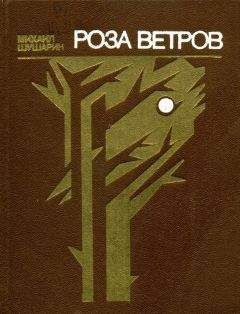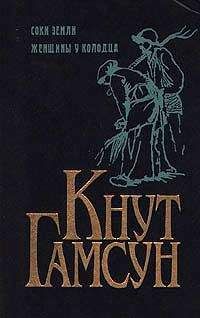Она, видимо, давно уже готовилась сказать подобные слова, искала какого-то подходящего повода, но сейчас они вылетели внезапно, и она задохнулась от волнения.
— Как же так? Вы подумайте! Не горячитесь! — продолжал директор.
Но уговоры были бессмысленными. Их не слушал уже и Родион.
…Они любили бывать с Ириной в Сокольниках. Уходили в самые потаенные местечки, лежали на траве, и она, Ирина, первою сказала ему: «Люблю». И все однокурсники знали, что чувство это прочно и незыблемо, потому что и Родион и Ирина были глубоко порядочными людьми во всем. И сама Ирина, отправляясь из Москвы вместе с ним, была бесконечно счастливой. Но случилось с ней то, что не мог предвидеть Родион, о чем не знала она сама, москвичка, представлявшая сельские тоскливые будни в розовых тонах. Она почувствовала обман. Все было не так, как думала она ранее.
И сам Беркут — тоже был обман: не мог он, бессребреник, дать ей то, чего она ждала.
Через день Родион распрощался с директором, захватил свой студенческий чемоданчик и уехал в глухомань. Осенью того же года Ирину назначили главным зоотехником, и она вышла замуж.
…Блекла степь. Ветер будоражил сонную в озерах воду. Шли дожди. Как и раньше, по утрам, когда ненадолго проглядывало холодное солнце, Беркут приходил в контору отделения к рации. Он слушал далекий голос Аэлиты: «Воскресенка! Воскресенка! Ответьте, пожалуйста, главному зоотехнику!»
Что мог ответить Родион бывшей своей жене, если она стала чужой? И что из того, если бы он вдруг заговорил с Аэлитой? Обычно он отдавал трубку управляющему отделением со словами: «Скажите, что меня нет в конторе».
Война не представлялась Беркуту реальной. И в Тимирязевке, и в совхозе он слышал оптимистичные, а порой самонадеянные песни о неизбежной и быстрой победе над врагом и не обращал на все это внимания. Надо петь — ну и пусть поют. Но когда война пришла и стала реальностью, Беркут преобразился. Он сказал себе: «Нет для тебя, Родион, сейчас никакого другого дела, кроме защиты Отечества. Надо сначала выгнать захватчиков, а потом уж жить своими мыслями и делами».
В первые дни финской кампании он по партийной путевке ушел в армию. Водил лыжников в лобовые атаки на линию Маннергейма, пробирался с разведчиками через леса к самым укреплениям врага и брал «языков». Рота, которой командовал впоследствии, выстояла по горло в ледяной воде несколько часов в выжидании и повязала целиком штаб большого артиллерийского соединения. Хорошо были подготовлены финские воины. Но тут они натолкнулись на людей с другим, рожденным революцией характером. Это и низвергло их с построенного тогдашним буржуазным правительством дутого пьедестала.
Немало дорог истоптал Беркут и после финской. Но будни войны не огрубили его; и часто, оставаясь наедине с собой, он вздыхал украдчиво, и в глазах его жила тоска. Как-то не так, как у людей, складывалась жизнь! Эти минуты Беркут называл «бабьими» и старался отгонять навязчивые думы. В деле Беркут был упрям и смел. Нес оружие в руках, как рачительный хозяин. Его батальону и выпала честь выделить шестнадцать гвардейцев для выполнения боевого задания. С этим он и пришел в крутояровский взвод на построение. У Павла екнуло сердце: неужели не пошлет?
— На воду будут спущены плоты и лодки, — негромко говорил Беркут. — На лодках — чучела солдат. Надо, чтобы противник поверил, что именно на этом участке мы готовимся нанести удар. Он откроет по переправляющимся огонь. Держаться надо стойко, действовать быстро. Этого будут ждать артиллеристы, чтобы уничтожить огневые точки противника. С началом артподготовки все, кому удастся переправиться, должны находиться в квадрате 302. Ясно?
— Ясно.
— Предупреждаю, задание рискованное. Кто желает добровольно — два шага вперед!
Строй колыхнулся, взвод дважды глухо стукнул сапогами по закаменевшей земле.
— Отставить, — скомандовал Беркут. — Так не пойдет. Нам надо шестнадцать… Вот они: сержант Елютин, рядовые Юносов, Тихонов, Павлов…
Беркут зачитал список. Командира взвода Павла Крутоярова в нем не значилось.
— Товарищ гвардии майор! — попросил Павел.
— Прекратить разговоры. Все — на отдых.
Белую ночь перед боем провели вместе с «укрепрайоновцами», покидавшими утром насиженные места. Почти не спали. Увар Васильевич тайком посасывал козью ножку, лейтенант Левчук чистил пистолет и журил старшину:
— Весь запас горячей пищи надо было распределить по термосам и унести солдатам в траншеи, а ты около кухни болтался.
— Я так же сперва думал.
— Думал. Индюк думал, да сдох. За целые сутки не мог дело сделать. И роту не накормил как следует.
— Товарищ гвардии лейтенант, — обиженно возразил Петро. — Ну спросите, кто голодный, а? Ну кто голодный? Силком толкал, не едят!
— Потому и не едят, что ты помогал повару кашу варить, и один черт ей только рад. Ты бы сварганил что-нибудь такое, чтобы язык проглотить можно.
— Зря, лейтенант, про кашу такое говоришь, — потирал усы Увар Васильевич, огрузневший от еды. — Каша сытная получилась. Я полкотелка съел — наелся. Без хлеба.
Молчали. Глядели на белый туман, расстилавшийся по реке, по лесу, по траншеям.
— Эх, дела, дела! — Увар Васильевич вздохнул.
— Вы о чем?
— Да о жизни. О чем же еще? Сейчас у нас дома сенокос начинается. Травостой хороший. Дожди в самое аккурат время прошли. Ведь ты, хотя у нас и в колхозе числился, а работал-то больше в торговле, а я — вечно колхозник… Бывало, в середине августа по полтора плана по сену выполняли. И сено-то какое! Коровы едят и глаза от удовольствия защуривают. А сейчас Авдотья пишет, нет во всем колхозе ни одного мужика. Старики да ребятишки. Бабы на своем горбу все везут. Второй фронт открыли. Вот оно как.
— Не гарно нашим сейчас, — согласился Левчук. — Но ничего, дядя Увар, потерпим-подождем, мы свое сальдо-бульдо подсчитаем.
Плыли над головами мокрые клубы тумана, звенели в траве комары, пахло горелым. Когда солнце едва-едва коснулось горизонта, стала проглядываться гладь воды. Туман — хороший друг. Под его покровом притянули к берегу плоты. На них усадили чучела. Враг не мог заметить движения советских войск, заполнивших все прибрежные траншеи.
Ровно в четыре часа шестнадцать, названных Беркутом, разбившись на пары, бесшумно вошли в реку и вплавь, толкая перед собой плоты и лодки, направились на ту сторону. Судорожно дернулся берег противника, сверкнул жалами огней. Мелкие фонтанчики вспенили воду. На самой середине флотилию накрыли батареи. Одно за другим суденышки начали переворачиваться.
— Не дотянуть! Пропали! — Заколотился в нервном ознобе Павел Крутояров.
Его одернул Левчук:
— Не надо трагедию разыгрывать! Пока все идет по плану.
И правда. После ненастья наступило ведро. Раскололся воздух от ударов сотен орудий и минометов. Послышался нарастающий гул. Над головами пронеслись тяжело груженные советские бомбардировщики, за ними располосовала небо волна штурмовой авиации. Весь северный берег окутало черным дымом. Взметнулись в воздух вместе с глыбами земли осколки долговременных вражеских укреплений. Заиграли «катюши».
Более двух часов все дрожало и рушилось.
Когда орудия смолкли, а в ушах остался еще высокий-высокий звон, как от замирающей струны, разнеслась по траншеям команда:
— Пе-ре-пра-ва-а-а-а! Вперед!
И пошли.
Вот он, изрытый снарядами правый берег.
Амфибии еще не коснулись прибрежного галечника, а десантники были уже на берегу.
— В проходы! Обследовать укрытия! — Беркут с пистолетом в руке шел во главе батальона. — Крутояров! Разыщите своих!
— Есть!
…Прочесывание укреплений противника показало, что основные силы его отошли в глубь обороны. Сопротивление маленьких отрядов, оставленных для прикрытия, оказалось недолгим. В батальоне Беркута было всего четверо раненых. В их числе оказался командир первой роты гвардии лейтенант Левчук и сержант Сергей Лебедев. Левчука, как он сам выразился, «облюбовала» пуля, прошив левое предплечье, и он был в сознании. Лебедев же, искавший по приказу Крутоярова переправившихся на плотах солдат, втесался со своим отделением в самый центр обороняющихся финнов. Ему разнесло разрывной пулей руку и повредило ноги. Сергей бился на носилках и никого не узнавал. Кровь заливала брезентовое ложе, капала на землю.
— Скорее, спасайте его, черти! — ругался на санитаров Павел. — Скорее!
Горела земля, лес, остатки блиндажных накатов. Сажа — легкие черные мухи — забивала глаза, оседала на мокрых, просолившихся гимнастерках.
* * *
В результате первого дня наступления гвардейские части отдельного экспедиционного корпуса, в который входили воздушно-десантные бригады, продвинулись в глубину обороны на пятьдесят-семьдесят километров.