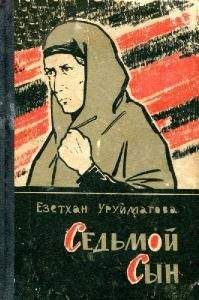— Пылающими кострами пусть разольются для них реки наши.
— В металл расплавленный пусть превратятся для них горы наши, леса и степи наши…
Вагон вздрогнул, сделал несколько рывков вперед, назад. Раздались свистки, цокот сапог, лающий окрик. Наконец состав тронулся.
— Не плачьте, девушки, не надо, — обратилась Нина к подругам, — нельзя нам плакать, совсем пропадем, если будем плакать.
Она старалась найти особенные, какие-нибудь внушительно нужные слова, но, не умея их найти, попросила вторично:
— Не плачьте… Не надо. Жалко мне и вас и себя. Нас освободят, вот увидите, освободят…
Дрожал вагон. Казалось, он кружит на одном месте. Не стало ни времени, ни пространства, ни тьмы, ни света. Был только заволоченный серой мутью ящик-вагон, да вповалку лежащие пленницы.
Страшная печать рабства, тоскливая обреченность лежали на серых, измученных лицах невольниц. Когда-то это были люди со своими радостями и мечтами.
В мутной тьме вагона, под мерный рокот колес, полузабывшись, Нина грезила…
Летом 1941 г. перед окончанием десятилетки она написала в анкете:
«Хочу закончить Московский архитектурный институт. Строить красивые дома; от ущелья к ущелью протянуть висячие ажурные мосты; в горах над алмазными рудниками построить сверкающие санатории, просторные школы…»
— Романтик ты, Нина, но инженер-романтик — это хорошо, — ласково улыбаясь, сказал ей тогда классный руководитель, пожелав стать архитектором.
Вагон толкнуло вперед, назад; свистки, остановка. Сладкое видение исчезло. Не было ни учителя, ни школы, и она вспомнила осень 1941 г.
Оборонительные сооружения под Моздоком, куда добровольно пришли сотни девушек, чтобы киркой и лопатой помочь той борьбе, которую вела родина в небывалом напряжении сил.
Потом… Немцы… Гестапо… И вот она, комсомолка Нина, замурованная в товарном вагоне, едет навстречу рабству, в лучшем случае — смерти.
***В городе Кракове, на границе, пленниц выгрузили на перрон.
Чужой холодный город принял невольниц на мокрые мостовые. Был конец февраля. Черные тучи низко висели над городом, сочась ленивым мелким дождем.
Разжиженный снег чавкал под ногами. Капало с крыш. На улицах было пустынно и зловеще тихо.
Серо, тускло, сиротливо глядел город разрушенными крышами и пробитыми насквозь стенами. Нина шла в средних шеренгах. После мутной одури вагона она жадно вдыхала мокрый запах талого снега. У нее кружилась голова, дрожали ноги.
У огромного кирпичного здания шеренгу остановили и отдельными партиями, человек по десять, пленниц загоняли в узкую дверь подвального помещения.
Когда очередь войти в эту дверь дошла до Нины, ее вдруг охватил безумный животный страх, она закричала и отскочила в сторону. Конвойный ударил ее прикладом по спине… Очнулась она от прикосновения чего-то холодного, металлического то к вискам, то к шее.
В подвальном здании, в полумраке, у стола, заваленного папками, бумагами, склянками, сидели три гестаповца-офицера. На рукавах их черных форменных костюмов белела свастика. Поодаль от стола с большими ножницами — пятеро солдат.
Девушки с улицы прямо попадали к ним в руки. Стальными большими ножницами их стригли, как стригут баранов.
Золотистые, как лучи, косы казачек; иссиня-черные, как августовские ночи на юге, — косы осетинок; матово-пепельные, как весенние сумерки, — косы русских девушек; темно-коричневые, как земля Украины, — косы украинок.
Мертвыми разноцветными жгутами, как убитая молодость валились на грязный каменный пол отрезанные девичьи косы. Увидев такую «парикмахерскую», Нина машинально прижала к горлу свои тугие косы, но две пары солдатских рук сдавили ей голову. Ножницы с холодным визгом прошли по голове, и Нина почувствовала, как тяжело скользнули по спине ее косы, а затем увидела, как солдат швырнул их в большую кучу волос.
Потом ее толкнули к столу, за которым сидели офицеры.
Один из них, худой, высокий, в коричневом резиновом халате и в резиновых перчатках, брезгливо повертел Нину за подбородок, заглянул ей в рот. Другой расстегнул ей ворот платья и торопливо приложил большую круглую печать. Нина вскрикнула и увидела на левой груди, чуть выше соска, три черные цифры: 213… Третий записал ее в журнал…
Ее больше не существовало. Не было у нее ни имени, ни фамилии, ни национальности, ни пола. Она была раб № 213, клейменный ляписом.
***Под Краковом был расположен один из немецких концлагерей, куда загнали и Нину с ее подругами. Пригнали их к вечеру. Ледяной коркой покрылась оттаявшая за день земля.
Холмы, озера, леса, перерезанные железными дорогами, узкоколейками. Проволочные заграждения в три ряда, сырая глина, нарезанная в кирпичи; огромные бараки — «общежития». А на восток от лагеря — без конца и края ровная синеватая даль…
Комендант лагерей торопливо принял новую партию. Вечерело. Оборванную толпу пленниц, посиневших от холода, загнали в лагерь. Нина растерянно остановилась и осмотрелась.
Над лагерем плыли оборванные клочья серого дыма. Скудный костер, разжигаемый невольницами, не мог согреть коченеющий лагерь, расположенный почти на открытом воздухе.
Черный вечер. Колючий холод, ржавая, в три ряда перекрученная проволока, визг снега под ногами часовых…
— Ложись, стоять ночью нельзя… Пристрелят, — раздался хриплый голос у ног Нины. Она беспомощно огляделась, не видя ни одного свободного места. Нагнулась и увидела кутающуюся в лохмотья женщину.
Женщина потянула Нину за подол и повторила:
— Садись, убьют…
Нина опустилась у ног говорившей и инстинктивно прижалась к ней, будто искала у нее защиты. Черный вечер обволакивал лагерь смертной тоской. Визжал снег; ветер созвоном нырял под ржавую проволоку. Над лагерем висел устойчивый запах смерти и гниения. Слабый, еле уловимый стон носился над черной неподвижной толпой.
Здесь страдали люди в муках голода и холода, стонали от бессильного гнева. Здесь ночами раздавался бредовый страшный хохот матерей, сходивших с ума, когда умирали их дети. Здесь ни в ком не вызывали сострадания человеческие муки. Здесь всем было одинаково мучительно. И немецкие палачи, глядя на все это, как на арене Неронова цирка, пьянели от запаха человеческой крови, изощрялись в пытках.
Здесь в цокоте кованых сапог, в зловещем звоне проволоки, в колючих порывах мокрого ветра, в безумном молчании огромной толпы — во всем ощущалось дыхание смерти. Близость ее чувствовал на себе каждый, особенно ночью.
Здесь по ночам самые сильные люди утрачивали надежду. Но в этом напряженном молчании все-таки был страшный затаенный крик…
— Расскажи, откуда пригнали… Все расскажи, что знаешь…
Нина молчала. В каких мрачных картинах ни рисовалось ей немецкое рабство, но всего этого она представить не могла.
Нина хотела сказать, что их пригнали с Кавказа, но горький комок подкатил к горлу, она прижалась к этой незнакомой женщине и горько заплакала.
— Плакать не долго будешь… Здесь плакать нельзя… промолвила женщина, притянув ее к себе, ласково прижав ее голову. — Здесь плакать нельзя. Здесь нужно терпеть, терпеть и ждать, — промолвила женщина.
— Вот я, — продолжала она, — из города Николаева… Агроном, Галей меня зовут… тоже плакала. Потом поняла: чтобы отомстить, надо жить… Жить… Несмотря ни на что… Жить хочу… Хочу видеть, как они побегут…
Укрывшись лохмотьями, девушки горячо дышали друг на друга.
— Ты расскажи, как там на нашей земле?
Нина, ободренная словами новой подруги, сказала:
— Наши придут, я знаю, обязательно придут… Пока нас довезли, партизаны несколько раз нападали на наш эшелон.
— Не найдут немцы покоя на нашей земле. А потому не плачь. Жить надо, нужно жить, даже только для того, чтобы увидеть их смерть, — промолвила Галя.
Галя из Николаева и Нина из Моздока, связанные одной судьбой, жались друг к другу, стараясь согреться. Тяжелый от весенней сырости ветер наскакивал на проволоку, и ржавый звон ее, мешаясь с бредовым стоном, прибивал лагерь к земле.
— Нас освободят, — шептала Нина. — Где нет женщин, там нет жизни, — сказал Горький.
***Огромная бетонная дыра. Сырой затхлый воздух. Туманом окутанные поля. Тягучая липкая грязь. Дорожки, скрытые под кронами старых сосен и берез.
Здесь строилась подземная Германия — базисные склады оружия и снаряжения. Много таких складов настроила Германия руками своих рабов и на Украине, и в Польше, и в Румынии.
За два года место работы у Нины менялось трижды, но с Галей они не расставались. Учет рабов на строительстве был строжайший. Ни один из этих клейменных невольников не должен был избежать смерти. Заканчивали одно строительство, их переводили на Другое.