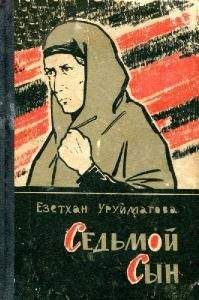— Помни: слабых и больных уничтожают. Нас поведут на медицинское освидетельствование, — говорила Галя. — Жить будет только тот, кто сможет работать… Надо жить, а не то вон видишь… — и Галя показала рукой за проволоку. Берег небольшой лесной реки. Территория нового строительства с электропроводами высокого напряжения, а вокруг лагеря — стая голодных немецких овчарок и волкодавов.
— Видишь? Это специальные собаки, которые охотятся за людьми.
— Больных выбрасывают собакам… Немцы жалеют патроны.
— Надо жить, чтобы увидеть смерть их… дождаться их смертного часа, — прошептала Галя, и, взяв лопаты, они стали в строй.
Страшней колючей проволоки, проводов высокого напряжения, страшнее шомполов, страшнее картофельной шелухи были эти голодные псы: на глазах у живых людей собаки рвали людей.
На заре изнуренная толпа пленниц тянулась на работу. Солдаты палками и автоматами подгоняли их.
Багровым кумачом полыхали весенние зори. Дули с востока теплые ветры. Молочным густым туманом просачивалась весна в леса, на большие дороги, на лесные тропинки…
Здесь, в глубине леса, была подземная Германия, поражающая размахами своего строительства. Из глубоких шахт-катакомб выбрасывались сотни тонн земли, камня и глины. Утоптанная железным шагом войны, плотно прибитая земля с трудом поддавалась ослабевшим рукам пленников.
В лесу, у корня древней сосны, большая партия пленниц, в которой были Галя и Нина, пробивали с утра глубокую штольню: чем глубже в землю, тем теплее земля. Перерытая, перевороченная влажная глина бугорками и холмами высилась у берега маленькой лесной речки. День был солнечный, но в лесу было сумеречно-сыро.
Сегодня в барак ночевать не пойдут. С лихорадочной быстротой торопили строительство. Злее, придирчивее становились часовые. Пришел вечер. Сизые сумерки заволокли лес. Белый туман поднялся над рекой. Пленницы расположились на влажных буграх свежей глины и в глубоких ямах. Потом пробили три раза в барабан — это значило: кончился день. И сейчас нельзя ии ходить, ни стоять, ни шуметь, ни разговаривать. Потом вокруг лагеря забегали собаки, спущенные с цепей…
Стало тихо. Темно. Потом край леса посветлел, стал розоветь. Это всходила большая, красная, круглая луна.
Как река в половодье, затопил лагерь лунный свет.
Как весенние ручьи, лунные тени просочились сквозь деревья и пали на плотную толпу невольниц.
— Смотрите, девушки, луна…
— Да, эта луна освещает и мою Украину, и твой Кавказ, — тоскливо, тихо прошептала Галя. — Она освещает твои горы, Нина, и мои вербы…
Плотная толпа девушек зашевелилась, партия замерла, глядя на луну. И вдруг неожиданно Галя запела, вкладывая в слова Шевченко рабью тоску по воле…
…Ты ли станешь, Украина,
Вдовой бесталанной!..
Низким, простуженным голосом пленница тянула:
Прилетать к тебе я стану
Полночью туманной…
Девушки испуганно глянули на подругу, плотнее сомкнулись вокруг нее и слабыми задушевными голосами, согласно, печально-красиво вытянули:
Для печально-тихой речи
На совет с тобою
Буду падать в полуночи
Свежею росою…
Нина не пела украинских песен. Пораженная печальной песней, она машинально мяла в руках кусок влажной глины, не сводя глаз с Галиного лица. За два года совместных мучений, она никогда не видела у своих подруг таких лиц. Она никогда не замечала, как стары были эти восемнадцатилетние девушки.
Холм свежей глины, толпа девушек. Лунные тени. Оголенные черные деревья, ртутный блеск ночной реки…
— Тише пойте. Тише… Но пойте обязательно, — прошептала Нина, будто зачарованная.
Закатав рукава, она торопливо месила глину. Куски глины, разжиженные водой, послушно ложились под ее руками. Весенняя ночь коротка. Она торопилась.
— Помоги, лепи, — толкнула она подругу, — я умею, еще девочкой умела лепить… Вроде ящика лепи…
Несколько пар худых торопливых рук мяли глину.
Любовно, влажными ладонями они проводили по граненным бокам глиняного пьедестала. Бесформенные куски глины под руками Нины вдруг оживали, принимая какие-то формы, живые очертания.
Девушки, затаив дыхание, следили за подругой. Ложились на бок, на живот, разглядывая со всех сторон маленькое глиняное сооружение. И Галя, пододвинувшись к подруге, тиская в руках глину, бережно, тихим голосом выговаривала слова, ясно округляя их к концу, вставляя лишние гласные для певучести.
Потолкуем, потоскуем,
Пока день настанет,
Пока твои малолетки
На врага не встанут…
Приглушенна, торжественно-тиха была песня в лунной тишине ночи.
Ах, родная Украина…
Не видать ее просторам
Ни конца, ни края!
Не убьет ее, не сломит
Никакая сила…
Призывом к мести, к жизни звучала песня полонянки.
Рассветало. Дули ветры с востока. Багровым кумачом полыхали зори. В призрачной тишине утра неотступно висел над лесом, над дальними дорогами грохочущий гул близкого сражения…
Лаяли собаки, бегали часовые вокруг лагеря, пронзительно выли в воздухе снаряды. Автоматными очередями расстреливали немцы пленных. Немцы уходили. Пришла и за ними смерть. Не ночью, не в потемках, не воровски, не пугливо, а пришла на заре, на рассвете, смелой поступью. Казалось, в грохоте танков звучала еще ночная песня полонянки…
Не убьет ее, не сломит
Никакая сила…
Первые танкисты, ворвавшиеся в местечко, увидели перевороченный лагерь. На свежих глиняных буграх сотни расстрелянных, растерзанных собаками трупов.
На желтой глине коричневыми пятнами темнели лужи крови. Раненые, убитые лежали вповалку. Танкисты майора Румянцева, первые ворвавшись в местечко, вместе с польскими крестьянами подбирали раненых, сдавая их в усадьбу.
В одном из углублений на глиняном, влажном еще пьедестале высилось изображение женщины. Майор Румянцев со своими танкистами долго рассматривали странную статую. Согбенная женщина, с киркой в руках, с кирпичом на шее. С ужасающей точностью было воплощено в куске сырой глины страшное слово — рабство.
Вокруг глиняного пьедестала то тут, то там краснела кровь.
Танкисты молча сняли шапки. Потом, осторожно подняв все сооружение, вынесли его на открытое место, на солнце.
— Сдать в усадьбу, поручить, чтобы берегли до нашего возвращения, — приказал Румянцев своим танкистам, а сам направился в новооборудованный госпиталь для пленниц, Заходило солнце. Лучи его переливались на танках, уходящих на запад, просачивались сквозь окна панского особняка, освещая кровать Нины, согревая ее лучами освобожденного солнца.
[6]
«Звеньевой» — так его называли все: и председатель колхоза, и бригадир, и пионеры, которые помогали его звену. Казалось, он и сам гордился этим именем. Высокий, широкоплечий, он в свои тридцать лет напоминал кряжистый, рослый дуб.
И вот этого здорового человека не пустили на фронт, а оставили с женщинами копать картошку. Всё его товарищи еще в июле ушли в действующую армию, а он остался и считал себя кровно обиженным.
Осенью сорок первого года в колхозе осталось мало настоящих работников. Москва готовилась к великой битве, и со всех сторон бескрайней Родины день и ночь тянулись эшелоны к столице. А Николай остался с женщинами, стариками и детьми. По вечерам, когда стан затихал, его просили что-нибудь рассказать, но он молча кутался в бурку и, упершись длинными ногами в стену шалаша, засыпал.
— Обидели его, на фронт не взяли, — объясняла детям Замират, лучшая колхозница из звена Николая.
Иногда ночью Николай уходил на край кукурузного поля, садился на землю и гладил лохматую морду старой-престарой лошади.
— Списали нас обоих, друг Серко, — говорил он горестно, — тебя председатель от работы отстранил, мне войну не доверили.
Серко тепло и шумно дышал ему в лицо, касаясь влажной обвислой губой его небритой щеки. А днем, насупив брови и ни с кем не разговаривая, Николай выполнял по пять норм, и колхозницы его звена не успевали убирать за ним картошку. Он работал легко и быстро, далеко отшвыривая перерезанные лопатой картофелины. При этом он говорил:
— Не порть мне красоту урожая.
Пришел председатель колхоза, увидел огромное вскопанное поле и одобрительно сказал:
— Вот видишь, потому я тебя и в военкомате отстоял… упросил военкома. За пятерых успеваешь. Мне бы еще трех-четырех таких, как ты, и я не чувствовал бы, что нет в колхозе мужских рук.
Только сказав это, председатель понял, что совершил непоправимую ошибку. Николай отбросил лопату, остановился перед председателем и не своим голосом закричал: