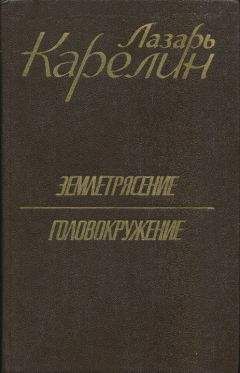— А для дам икорки отыщем. Не самой дорогой, красной.
— Ещё раз восторг! Плюс пиво и водка.
— Я красную и люблю, — сказала Нина. — Я её больше паюсной и зернистой люблю.
— Правда? — Ира улыбнулась ей, снова постарев. — Значит у нас с вами один вкус. А из этих кого вы любите? — она насмешливо глянула на мужчин.
— Никого! — сказала Нина, с такой радостной готовностью откликаясь на вопрос, что ей нельзя было не поверить. — Тот, кого я люблю, далеко–далеко сейчас. Смотрите, а вот и Георгиу! — Нина помахала рукой. — Пожалуйста, подойдите к нам!
Худой человек, сутулый и с запавшими щеками, свернул к их столу. В одной руке он держал скрипку, в другой смычок. Он шёл через зал, пришаркивая, но и пританцовывая, кланяясь на все стороны и никого не видя. Он шёл играть. Одет он был жалчайшим образом: бостоновый лоснящийся пиджачок, обтрёпанные белые брюки, яркий галстук, порвавшийся на сгибах, разбитые сандалии. Но он шёл играть. Н скрипка у него была из тех самых, на которых играют настоящие мастера: лёгкая и напрягшаяся, крутобокая, какой‑то древней прекрасной смуглоты.
Георгиу подошёл, поклонился, не узнавая, Нине и всем остальным, выжидающе склонил к плечу сухо маленькую голову. Большие, с жёлтым белком глаза у него спали. Он шёл играть.
— Простите, — сказала Нина, прижимая ладони к щекам. — Вы меня не узнали. Простите.
— Я для вас играл?
— Да. Мы сидели у самого оркестра, вы подошли к нашему столику…
— Я вас вспомнил, —сказал Георгиу, не поглядев на Нину. Он и не пытался вспомнить её. — Вы сидели у самого оркестра. Я играл вам «Цыганские напевы» Сарасате. Это… — он кинул под подбородок скрипку и сразу заиграл, покачиваясь. Он только и ждал этой минуты.
Играя, он двинулся между столами к эстраде. Там уже уселись на свои места оркестранты, три волосатых толстяка — пианист, ударник, трубач. Они не утруждали себя пиджаками, они были в рубашках, рукава засучены, вороты распахнуты. Они взмокли от жары, от выпитого пива, они с тоской и мукой изготавливались к трудовой своей повинности. Вот заиграют, и ахнет барабан, охнет пианино, ухнет труба. А этот в строгом жарком пиджачке, с запавшими щеками туберкулёзника, припав к скрипке, заиграл на радость и в утешение себе и своим слушателям.
Как он играл? Леонид слышал отзывы знатоков об его игре. Они утверждали, что Георгиу не такой уж сильный скрипач, что он и подвирает часто, много допускает отсебятины. Пусть так. Здесь, в фанерном дворце на краю пустыни, он был Яшей Хейфицем. Этот румын все понимал, все переживал вместе с тобой. Надо очень далеко отъехать от родины, чтобы так играть.
— Он это играл вам тогда? — тихонько спросила Соня, наклонившись к Нине.
— Нет, не это. Он не узнал меня.
— Он и меня не узнал, — сказал Тиунов. — А ведь знакомы который год. Ничего, отыграется, все вспомнит.
— А сейчас он далеко–далеко, — сказала Нина. — В своей Румынии.
— Все разъехались, — усмехнулся Дудин и с ожесточением стукнул воблой о спинку стула. — Смотрю, и ты, Галь, все куда‑то глаза отводишь. Ты‑то куда укатил?
— Я недалеко, за два–три квартала отсюда.
— А тебя там ждут? — быстро спросила Нина.
Георгиу кончил играть, все ему захлопали.
— Как стыдно, мы его и не слушали совсем, — сказала Соня.
— Почему, я слушал, — сказал Леонид. Он поднялся, —Мне пора. Прощайте, друзья. Вася, загляни завтра ко мне на студию. Будет диалог по поводу диалога в твоём сценарии.
— Как, опять поправки?!
— Опять. Новый режиссёр, новые и глаза. Даже две пары глаз.
— Но Александр Иванович ничего мне не сказал.
— Он и не скажет, он человек мягкий. А вот Клара скажет. Да не тебе, а мне. Приходи.
— И не подумаю! Сегодня же вечером уезжаю в Москву!
— Вася, стоит ли так горячиться? — Леонид обошёл стол, обнял Дудина за плечи. — Ну полистаем ещё сценарий, поглядим, что можно поджать. Не злись, не злись, фильм‑то запускают. Ты просто счастливчик, Вася. Девять фильмов делает страна в год, и один из них твой. Ликуй!
Дудин встал, они расцеловались.
— Ладно, черт с тобой, — сказал Дудин. — Приду. Ох и хитрый же ты, Галь!
— Совсем он не хитрый, — сказала Нина. — Вот уж не хитрый!
Прощаясь, Леонид отвесил всем шутовской низкий поклон.
— Помолитесь за меня, друзья!
Он зашагал к выходу, мгновенно обнаружив кругом знакомых. Ресторан как‑то незаметно заполнился людьми. Леонид шёл и раскланивался на все стороны. А всё-таки он был довольно видной в городе фигурой. Он подумал об этом не без удовольствия.
Его окликнула Ира. Он подошёл к ней. Она не сразу заговорила, была занята, наливала официантке в графин вино. У неё были красивые руки, полные и молодые, удивительно не поддавшиеся загару.
— Зашёл бы как‑нибудь, — сказала она, когда официантка унесла свой графин. Она улыбнулась ему осторожно, только уголками губ.
— Нет, Ира, я не приду, — сказал Леонид. — Я не могу прийти.
— Уезжаешь?
— Нет.
— А–а…
7
Он снова был на улице. Он удивился, обнаружив вечернюю уже темь. И обрадовался ей, тому, что так тусклы фонари. На улочке, куда он шёл, совсем, наверное, темно. Только и свету, что из занавешенных окон. Да огни редких фонарей за спиной на улице Свободы. Да ещё луна в небе. Она не очень‑то ярка в этом небе. Пыль, повисшая над пустыней, скрадывает, туманит лунный свет. И отлично. Он любил темноту Лениной улочки, тишину её, безлюдье. Лена ближе была ему там. Он видел только глаза её, смутно различая прекрасное её лицо, он слышал только её дыхание. Ни дерзкая победоносная её улыбка, ни звонкий победоносный её голос не ранили его на этой улочке своим нестерпимым блеском и звуком. Они целовались и почти не разговаривали. Лена не умела говорить шёпотом, а надо было говорить шёпотом, чтобы на голоса не выглянула её суровая тётушка, сухонькая старушка, имевшая над Леной безграничную власть.
Леонид что‑то приуныл, побыв в компании милых своих приятелей и приятельниц. Ушло куда‑то, спряталось, не ухватить одушевление, с каким бросился он из дома Марьям, чтобы в миг один взять да и поменять судьбу. И зажить, как люди живут, как вот Марьям и Птицин живут, не рассчитывая свою жизнь. Эх, не надо было сворачивать в эту «Фирюзу»! Что, собственно, собиралась сказать ему Нина? Ну что? Она спросила: «А тебя там ждут?» Глупенькая, ведь она не знает, как быстры шаги Лены в ответ на его стук, условный стук в окно, их стук: два медленных, раздельных удара, мол, это я, вот, мол, и я, и два коротких, нетерпеливых, скорей, скорей выходи. И сразу же, почти сразу же шорох шагов по гравию двора. И нетерпеливо откинутый засов калитки, и нетерпеливо протянутые вперёд руки. Нет, Нина, ты ничегошеньки не знаешь и не понимаешь. Вообще, дружок, лучше не вмешиваться в чужую жизнь. Вот Соня поумнее тебя будет. Запомним её слова: «Человек не хочет, чтобы вмешивались в его жизнь. Это так естественно…» Хорошо сказано! И не для студенточки даже мудро. А мы вмешиваемся. Мы только и делаем, что вмешиваемся. Мы даём друг другу советы. Только этим и занимаемся. Мы оберегаем, предостерегаем. Ах, какие же мы все грубых душ человеки! Нет, не грубых, а худо воспитанных душ. Нина, ты добрая, ты очень добрая и славная, но, прости меня, у тебя невоспитанная душа. Прости меня. Думаешь, я не знаю, о чём ты собиралась со мной поговорить? Знаю. Чушь всё это! Чушь, Нина, слышишь? И про тебя сплетничают, не так ли? Про тебя и про Юру, что укатил в свою Москву и не пишет. Он не пишет, а вот Дудин станет писать. Но ты будешь думать о Юре и позабудешь о Дудине. Не правда ли? То‑то и оно.
Одушевление не возвращалось. И рядом где‑то оно, и не вернуть, не вобрать снова в себя вместе с жарким этим, из пустыни, воздухом. «А. тебя там ждут?..» Наваждение!
Тёмная улочка внезапно и скоро легла ему под ноги. Вот и дом Лены, в один этаж, такой же, как все тут, но сразу узнанный, вот окно её комнаты. «А что, если отложить все до завтра?..»
Леонид быстро подошёл к окну и постучал, спутав стук: сперва дважды коротко, а потом уже дважды раздельно.
Он прислушался: все должен был решить первый же звук. Если Лена дома, то первый же звук скажет ему это. А нет её дома, то скажет и об этом. Леонид оробел. Он не решения своего испугался, а чего‑то ещё. Он не мог понять чего. Повременить бы денёк, он бы понял.
Оттуда, из дома, пришёл первый звук, просто чуть слышный шорох. Лена была дома! Леонид привычно обрадовался: «Она дома!» И испугался: «Она дома!» Он никак не мог понять своего страха. И не было уже времени, чтобы понять. Зашуршал гравий во дворе, быстро и тихо стукнул. засов, Лена, стоя в раме калитки, протягивала Леониду руку.
Он шагнул к ней.
— Лена, будь моей женой.
— Что, что?
Он молчал. Она отлично слышала его слова. Он молчал.
— Но ты же знаешь, я не могу с тобой уехать.
— Не надо никуда уезжать. Я остаюсь, Лена.