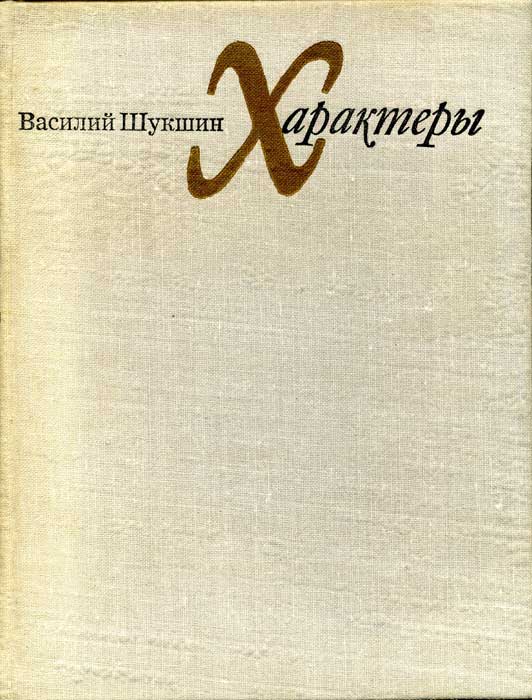велела купить?
Резиновые… Сергей вовсю злился.
— Валяйте лучше про попа — сколько он, все же, получает?
— Больше тебя.
— Как эти… сидят, курва, чужие деньги считают. — Сергей встал. — Больше делать, что ли, нечего?
— А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И не надо так нервничать…
— Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взаймы взял, или что…
— Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко…
— Жалко — у пчелки в попке. Жалко ему!
Еще немного позубатились и поехали домой.
Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).
— Она тебе на что деньги-то давала? — спросил механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. — На что-нибудь другое?
Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.
— Ни на что. Хватит об этом.
Приехали в село к вечеру.
Сергей ни с кем не подосвиданькался… Не пошел со всеми вместе — отделился, пошел один. Домой.
Клавдя и девочки вечеряли.
— Чего это долго-то? — спросила Клавдя. — Я уж думала, с ночевкой там будете.
— Пока получили да пока на автобазу перевезли… Да пока там их разделили по районам…
— Пап, ничего не купил? — спросила дочь, старшая, Груша.
— Чего? — По дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет — дорого, лучше бы вместо этих сапожек… «Пойду и брошу их в колодец».
— Купил.
Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это «купил» было сказано, что стало ясно — не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему… Ждали.
— Вон, в чемодане. — Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил: пальцы трясутся.
Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки вытянула сапожки… При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакивали из-за стола… Заахали, заохали.
— Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?
— Тебе, кому.
— Тошно мнеченьки!.. — Клавдя села на кровать, кровать заскрипела… Городской сапожок смело полез на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли… Голенище не лезло.
— Какой размер-то?
— Тридцать восьмой…
Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.
— И размер-то мой…
— Вот где не лезут-то. Голяшка.
— Да что же это за нога проклятая!
— Погоди! Надень-ка тоненький какой-нибудь чулок.
— Да кого там! Видишь?..
— Да…
— Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!
Возбуждение угасло.
— Эх-х! — сокрушалась Клавдя. — Да что же это за нога! Скольно они?..
— Шестьдесят пять. — Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.
Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах, блестели слезы… Нет, она слышала цену.
— Черт бы ее побрал, ноженьку! — сказала она. — Разок довелось, и то… Эхма!
В сердце Сергея опять толкнулась непрошеная боль… Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на него… Встретились глазами. Клавдя смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, — как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо.
— Ну, Груша, повезло тебе. — Она протянула сапожок дочери. — На-ка, примерь.
Дочь растерялась.
— Ну! — сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. — Десять хорошо кончишь — твои.
Клавдя засмеялась.
…Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери — курил последнюю папироску. Присел и сегодня… Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью-минуту.
Клавдя стелила в горнице постель.
— Ну, иди… — позвала она.
Он нарочно не откликнулся, — что дальше скажет?
— Сергунь! — ласково позвала Клава.
Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой… Но не подумал так: «Купил сапожки, она ласковая сделалась». Нет, не в сапожках дело, конечно, дело в том что…
Ничего. Хорошо.
Жил-был в селе Чебровка Семка Рысь, забулдыга, но непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце… И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках… Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они ровные от плеча до кисти, толстые, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:
— Что мы тебе, машины? Тогда иди заведи меня — я заглох. Но подходи осторожней — лягаюсь!
Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно: поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь, — милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать.
— Зачем же, Семка? — спрашивали.
— Затем, что так — хоть какой-то смысл есть, Я вот нарежусь, так? И неделю хожу — вроде виноватый перед вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так насмотрелся на вас… Тьфу! И потом: я же не валяюсь каждый день под бочкой.
Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену — просто не замечал ее.
— Погоди, Семка, на запой наладишься, — стращали его. — Они все так, запойники-то: месяц не пьют, два, три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься.
— Ну, так, ладно, — рассуждал Семка, — я пью, вы — нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты-одеты, я не ворую, как некоторые…
— У тебя же золотые руки! Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.
— А я не хочу как сыр в масле. Склизко.
Он, правда, из дома ничего не пропивал, всю зарплату отдавал семье. Пил на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф «изладить», что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет… Кабинет они оба додумались «подогнать» под деревенскую избу (писатель