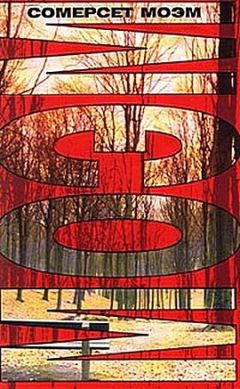— По-ка-тил-ся! — раздельно произнес он, поглаживая жесткие пепельные волосы.
В этот час, перед сдачей номера, Ланговой всегда сам придумывал заголовки для статей, идущих в набор, и размечал шрифты.
— Над фронтовыми сводками сегодня дадим одно слово: «Покатился». Над всей полосой. Что? — Ланговой смеялся, глядя в смеющиеся лица товарищей. — Не мельчить, не мельчить, ребята! Не «Враг покатился», и не «Деникин покатился», и не «К Черному морю», а просто «Покатился».
И номер был сдан в машину.
Когда Рачков вернулся с газетой из типографии, уже рассвело. Утро было тихое и солнечное. Рачков присел на подоконник. Внизу, за окном, белела мостовая. Корректор закурил; он любил тихонько покурить утром в пустой, всеми покинутой редакции. Ланговой спал в кабинете, накрывшись с головой шинелью. В большом зале, неравномерно согретом печуркой, среди портянок, развешанных для просушки, и бумажного сора на грязном паркете, ярко краснели на конторке рябиновые гроздья.
В мирное время Карагодов знал, что, если в Лодзи прошла гроза с ливнем или в Казани наступило похолодание, он завтра известит об этом петербуржцев: у него было много добровольных корреспондентов. Теперь остался Карагодову градусник — тот, что висел у него за окном.
Он жил в Лесном, в маленьком домике, среди парка, среди занесенных снегом оранжерей. Здесь прошла вся его жизнь. Чего только не было: снегопады, дожди, десятибалльные штормы и при западном ветре высокая вода на Неве, с пальбой из пушек. Здесь он писал «Чтение для народа», «Беседы о русском лесе».
Под вечер в николин день кричала ушастая сова, а раз в пять лет — и всегда в мае — сохатый проходил через парк, и сторожа Лесного института поутру водили Карагодова по его следам.
И все было записано.
На маленьком круглом столике в палисандровом сундучке хранились дневники петербургской погоды за сорок лет.
Метель бушевала до самого утра. Когда-то Карагодов знал, откуда и куда движутся циклонические массы. Теперь, подобно любому крестьянину, он только и мог, выйдя во двор, запахнувшись покрепче, подставить мокрому ветру заспанное лицо и пробормотать: «Крепко метет…» И все-таки в ту ночь, стоя на крыльце и удивляясь тому, как взволновало его предложение редактора-большевика, Карагодов радовался чему-то, что должно было неминуемо наступить по всей стране.
«Значит, войне конец… конец», — повторял он и силился вообразить огромные просторы России — какие они в этот вечер: с морозами, туманами, оттепелями — и ничего не мог представить. Мерещились походные кухни на станционных перронах, составы теплушек, гармошка.
Он возвратился в холодный кабинет. Огонь ночника на письменном столе слабо повторялся в стеклах гербария, в бронзовых рогах оленя, в стеклянном колпаке, под которым хранились пожелтевшие от времени письма Россмеслера[69] и Брема.[70]
А днем, когда наполнила редакцию вчерашняя толпа и оттесненный к печке Рачков сидел на поленьях с раскрытым томом словаря Граната, кто-то тронул его за плечо. Он обернулся — Карагодов.
— Ага, и вы здесь! — сказал корректор: он решил, что фенолог пришел вместе со всеми.
— Что вы ищете у Граната? — спросил Карагодов, вглядываясь в книгу.
— Да вот Гурьев… Нужно дать сноску в газете. А то позабыли, что это за Гурьев и где он есть. А он нынче взят. И в нем двенадцать тысяч жителей.
— Проводите меня к редактору, — сказал ученый.
Он изложил Ланговому свои условия скучным, лекторским голосом. Он, видимо, волновался: его смущали люди, заполнившие кабинет: пуховую шапку он положил на стол.
— Нормальная фенологическая весна у нас в Петербурге, — говорил Карагодов, — наступает в начале марта, когда прилетают грачи.
Молоденький сотрудник, не успевший досказать редактору свои соображения насчет сыпнотифозных лазаретов, с интересом вслушивался в слова Карагодова.
— За время весны, пока не отцветет сирень, я приготовлю десять — двенадцать бюллетеней. Вы отплатите мой гонорар натурой. Мне денег не нужно. Я курю… Махорка… Мне нужен хлеб… хотя бы пол пайка. — Тут Карагодов взял со стола шапку и натянул ее на уши двумя руками. — Мне нужны спички. Я одинок. Керосин.
Редактор слушал фенолога, стоя с полевой сумкой в руке: он торопился в Смольный.
— Я допускаю, — продолжал ученый сквозь гул голосов, — что, как ни маловажны события, происходящие весной в природе, в сравнении с восстановлением нашей родины и победами на фронтах, мои заметки о весне все же могут занять скромное место.
— Вот что! Поменьше слов, дорогой профессор: военное время, — оборвал его Ланговой и рассмеялся. — Весна нам нужна раньше ваших фенологических сроков. «В начале марта» — никуда не годится. Вы сами вчера сказали, что под снегом весна. Вот и начнем.
Так в январе 1920 года в редакции появилась новая должность. Карагодову, по его просьбе, стол поставили около печки, и удивительный старик, о котором никто из молодых сотрудников толком не мог сказать, на что он нужен, принялся за работу.
Фронты наполняли газету, что ни день — новые списки занятых городов, и в редакции не знали, как разместить эти сводки на газетных страницах. Буденновский корпус занял Ростов. Сибирский ревком сообщал, что советская власть простирается до самой Читы. В ночь на 10 января Охотская радиостанция передала, что в Петропавловске-на-Камчатке гарнизон перешел на сторону народа. В среднеазиатских песках повстанцы разбили Джунаид-хана и овладели Хивой.
Никогда в Петрограде не ждали весны с таким нетерпением. На дровяных дворах было пусто. Хлебный паек сокращался. Ждали подвоза по воде, когда вскроются реки: на Волге зимовали во льду караваны с хлебом и нефтью.
Сотрудников не хватало. Огромный город боролся с разрухой, и Ланговой сам отправлялся на заводы или в доки. Он спал все меньше и меньше.
Карагодов старался быть незаметным. Но редактор иногда вспоминал о Карагодове.
— Где же весна, Дмитрий Николаевич? — спрашивал он взыскательным тоном, каким спрашивают хроникеров: «Где же факты?»
— Мне еще не пишут об этом фенологи, — отвечал Карагодов.
Ведь он предупредил товарища Лангового: он сорок лет наблюдал в Петрограде деревья, цветы и небо — весны в феврале не бывает.
Ему не давали никаких поручений, он только поддерживал огонь во времянке. Эту обязанность он сам возложил на себя. В огромных окнах серело асфальтовое небо, задернутое облаками, а в круглом глазке железной дверки видно было, как копошится в печи веселый, живой огонь. Рачков стоял у конторки и расставлял корректурные знаки на влажных оттисках набора. Контуженный на восточном фронте хроникер, подергивая шеей, диктовал машинистке:
— «Выбитый из Царицына противник… запятая… преследуемый нашими доблестными частями… написали?.. бежит вдоль железной дороги на Тихорецкую…»
И среди этого разноголосого шума неприметно пребывал за своим столом Карагодов. Он восстанавливал нарушенные войной связи. Почерком острым и мелким он писал на конвертах адреса тех, кто когда-то в разных местах России наблюдал природу. То были скромные пожилые люди: учителя начальных школ, любители птичьего пения, собиратели грибов, рыболовы. Живы ли они? Иногда, выписывая адрес, Карагодов сомневался, не находится ли эта местность еще по ту сторону фронта, у белых. Тогда, ни с кем не советуясь, он перелистывал комплект газеты или в отсутствие Лангового забирался в его кабинет и со списочком в руке сверял по карте. Случалось, что, прочитав утром газету, фенолог тотчас сдавал секретарше залежавшиеся в столе письма.
Зима продолжалась, и не было ей конца. В воскресные дни Карагодов выходил за город, бродил по лесу, прислушивался к скрипу сосен, делая насечки.
— Где же весна? — нетерпеливо спрашивал Ланговой, когда Карагодов возвращался в редакцию. Но фенолог молчал, и редактор, пожав плечами, добавлял: — Тогда начнем без вас.
Поздно вечером, подбросив щепок в печурку, Карагодов потихоньку уходил из редакции. С полфунтиком ржаного хлеба он шел по Симеоновской, по Литейному; привычно останавливался у костров, пылавших всю ночь перед хлебными лавками, и многие женщины, гревшиеся у костров, узнавали его, потому что он проходил здесь каждую ночь.
Карагодов выходил на Литейный мост и видел на Неве, под мостом, вмерзшие в лед пустые баржи, верхушки затонувшего плавучего крана.
У Финляндского вокзала маршировал красноармейский отряд. И снова фенолог углублялся в темные провалы улиц; в поздний час переставали дымить бесчисленные трубы «буржуек», торчавшие из окон многоэтажных домов.
Где-то постреливали. Карагодов прибавлял шагу, отламывал корочку от пайка, жевал на ходу и на ходу припоминал все сроки весны: когда опять в погожий апрельский денек выползут из земли дождевые черви, появятся шмели на зацветшей медунице, и по дворам окраин, давно не метенным и неприбранным, зацветут черемуха и ольха.