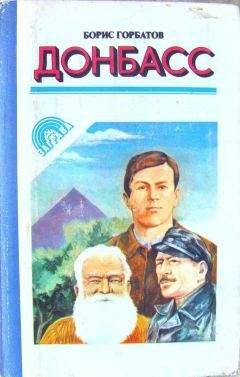Ну что ж! Рудин не обижался. Ему самому до смерти надоела эта затея. Теперь он ждал награды. Каждое утро и каждый вечер ждал он телеграммы или звонка: назначения на новую работу. Прикидывал варианты; заранее уже решал кое от чего отказаться, главное — не продешевить себя. И не дождался.
Да, не удалась жизнь, не удалась! Потом он еще два или три раза пытался поднять шумиху — ничего, кроме конфуза, из этого не вышло. Так однажды, в лютую прорывную зиму 1932/33 года, затеял он «штурмовые воскресенья».
— Отдадим все свои выходные дни родной шахте! — гремел он на пленуме. — Все пойдем в забой! Покажем пример! Рубанем уголек. Я первый пойду! — кричал он, зажигая всех и самого себя пламенной речью.
И в первое же воскресенье отправились в шахту работники аппарата горкома и горсовета, редактор газеты, районный прокурор, врачи из горздрава, управляющий отделением госбанка, директор пивоваренного завода и во главе всех — сам товарищ Рудин, в новенькой шахтерке, в резиновых сапогах, в каске-надзорке и с именной лампой, преподнесенной ему когда-то. На поверхности все это выглядело очень картинно — фотографы суетились, — а в забое вышло нелепо и смешно. Одно дело грузить уголь или дрова на субботнике, мостить дорогу или сажать деревья — для этого особой квалификации не надо, доброй охоты достаточно; совсем иное дело — добывать уголь в забое. Но Рудин понял это, только взяв в неумелые руки отбойный молоток.
— Вы мне только покажите, как тут управляться, а уж я сам… — неуверенно, но еще бодро сказал он забойщику. Ему показали. Он попробовал. Ничего не вышло. Он попробовал еще… Шахтеры добродушно посмеивались. К концу смены он с грехом пополам нарубил неполную вагонетку угля. На вагонетке торжественно написали мелом: «Уголь, добытый товарищем Рудиным». Он так и не понял — всерьез это сделали или в насмешку. В следующее воскресенье он в шахту уже не поехал.
Скоро он вообще отказался от затей, притих, опустился, заскучал. К технике душа у него не лежала, в повседневной будничной работе горкома не было для него ни красоты, ни радости; он еще шумел и горячился по привычке, произносил пламенные речи, но это был уже не огонь, а пепел. Рудин давно потух.
Да, Донбасс не стал для него Клондайком. Уже пять лет он здесь, пять лет передвигается из района в район, нигде долго не приживаясь. Это движение не в гору, а с холмика на холмик. А все вокруг обгоняют его. У других секретарей и удачи и победы. Они и не добиваются славы, она сама к ним приходит. «Отчего это? — завистливо думал он. — Отчего одному мне так фатально не везет?» Он не мог понять, разумеется, что ответ заключен в нем самом, что, кроме него, виноватых нету, что партийное дело нельзя творить равнодушными, барскими руками, нельзя работать с людьми, не любя людей, никого, кроме себя, не любя. Не сознавал он и того, что не только от соседей — он и от жизни уже давно отстал, что и держится-то он на своем посту непрочно, случайно, как держится на дереве последний лист — желтый, сморщившийся, мертвый — до первого крепкого ветра…
Он не сознавал этого и с унылой надеждой все ждал, все верил, что придет и к нему в конце концов «светлая идея» и выручит и возвеличит его. А когда эта идея вдруг явилась перед ним в образе Андрея Воронько в нарядной «Крутой Марии» — он ее просто не заметил, не угадал.
Этого он себе до сих пор простить не мог. «Как я с моим чутьем мог это проворонить?» — думал он. А когда рекорд Абросимова все-таки состоялся и Рудин узнал об этом — он не обрадовался, а пришел в ярость. «Как? Без меня?!» Только это и было в нем. В том, что произошло в ночь на первое сентября на «Крутой Марии», он увидел не трудовой подвиг шахтера, а только хитрую интригу против себя; за горами добытого угля разглядел не Абросимова и Воронько, а Журавлева и Нечаенко. «А-а! — негодовал он. — Карьеру делаете за коей спиной? Подсидеть меня хотите?» Иначе он и представить себе не мог смысла участия Журавлева и Нечаенко в этом деле.
Тогда-то он и обозвал рекорд Абросимова очковтирательством. Хотел даже комиссию для разбора дела создать. Но тут пришла «Правда» с известием о рекорде Стаханова, и Рудин понял, что он опять попал впросак. Однако он даже не извинился перед Абросимовым, ему это и в голову не пришло, он просто сделал вид, что ничего не было, а сам судорожно заметался, забеспокоился, как бы наверстать упущенное, как бы изловчиться и на ходу вскочить в поезд, на который он было опоздал. И, как всякий отстающий человек, он стал шуметь и суетиться больше всех.
Теперь и он чуял, что на шахтах Донбасса настало необычайное время. Он говорил себе: ну, теперь уже не зевай! Теперь только греми! Сколько вырубал Стаханов? 102 тонны? Значит, надо дать 200! 300! 500! Эти цифры заплясали в его воображении, ничего, кроме них, он уже не видел. Теперь он и день и ночь носился на своем газике по району, организовывал новые рекорды (он называл их «мои бомбы»), не ел, не спал, охрип, но чувствовал себя прекрасно. Он даже помолодел, повеселел; явилась прежняя энергия, а с нею и старые надежды. Скептик стал энтузиастом. Когда Забара вырубил 300 тонн, Рудин ликовал больше всех, больше самого Забары, больше фотографов и репортеров, которых он притащил с собой на шахту.
И вот — выступление Андрея Воронько на партийном собрании. Опять Воронько. Опять Нечаенко!..
«Да, скверная, скверная история! До обкома дойдет. А может быть, и до ЦК. Кажется, на собрании газетчики были. Как же я-то не сдержался? Да, плохо… Надо поскорее выпутываться… пока не поздно… Но как? Как? Как?» — беспорядочно думал он, блуждая взглядом по знакомым стенам кабинета и дольше всего задерживаясь на телефонных аппаратах и кнопке звонка. Но кому позвонить? Кого позвать? Кто выручит?
Он машинально нажал кнопку звонка.
— Что, Василий Сергеевич здесь? — хрипло спросил он у секретарши, когда та явилась.
— Здесь. Только что пришел. Позвать?
— Нет, — подумав, сказал Рудин. — Не надо.
Но когда секретарша ушла, пожалел, что так сказал. Вскочил, быстрыми шагами выбежал из кабинета, пересек приемную и вошел к Журавлеву.
Журавлев был одни. Рудин сразу же цепким взглядом впился в него: знает или не знает Журавлев о том, что произошло на «Крутой Марии»? По лицу Журавлева этого нельзя было понять. С обычной вежливостью приподнялся он навстречу; обычный холодок в глазах… «А с другими людьми у него и лицо другое!» — неожиданно и ревниво подумал Рудин: прежде он вообще не обращал внимания на то, какое у Журавлева лицо. Дружбы между ними не было. Рудин ни с кем не дружил здесь. «Дружба бывает только между равными!» — объяснял он себе, а кто же здесь мог быть равным Рудину? А сейчас он пожалел, что дружбы не было. Неизвестно, как начать разговор. Откровенно говорить невозможно. Как вообще держаться с Журавлевым? А Журавлев молчал.
— Да-а… Веселенькие истории происходят у нас в организации… — сказал Рудин, опускаясь в кресло; он хотел это сказать как можно беспечней, натуральней, попробовал даже засмеяться, но смех не вышел, слишком много злости клокотало сейчас в Рудине. — Веселенькие, нечего сказать…
— А что? — глухо спросил Журавлев.
— Да мне сегодня на «Крутой Марии» форменную обструкцию учинили… Не постеснялись…
— Я слышал о собрании…
— Вот как! — подозрительно вскинулся Рудин. — Быстрая же у тебя информация! — скривил он рот.
Журавлев промолчал.
— Ну и что же ты думаешь об этом?
— О чем именно?
— Ну, о том, что произошло на собрании? — нетерпеливо вскричал Рудин.
Журавлев пожал плечами:
— А что ж тут думать? Человеку нельзя запретить выступать с критикой.
— Но как? Как выступать?
— А как? Говорят, неплохо выступил… — невольно улыбнулся Журавлев.
— Кто это говорит? Нечаенко? Так он первый бузотер и демагог в районе. Его давно прогнать следует.
Журавлев ничего на это не ответил, только усмехнулся уголками рта: прогони, мол, попробуй! И Рудин вдруг с тоской почувствовал свое бессилие и свое одиночество.
Но сдаваться он еще не хотел.
— Демагогия! — проворчал он. — Только, брат, не на того напали. Знаю я эти номера! Не выйдет! Рудина знают! Кто этим бабьим сплетням поверит?
— А это не сплетни! — негромко проговорил Журавлев. — Все так и было на «Красном партизане».
— А ты уж и на «Красный партизан» успел сбегать?
— Зачем? Люди оттуда приходили. Рассказывали. Как говорится: шила в мешке не утаишь.
— Да кто? Кто? Какие люди? — вскочил Рудин. — Кто они, эти шептуны? Имена требую! Имена!
— Зачем же нервничаешь? — остановил его Журавлев. — Обыкновенные люди были. Коммунисты. Напрасно ты на Воронько обижаешься, Семен Петрович! — усмехнулся он. — Не выступи Воронько — другие б выступили. Шила в мешке не утаишь, — снова повторил он.
— Ах, вот как? — закричал Рудин. — Так и ты с ними против меня? — Он уже снова потерял власть над собой. — Мой авторитет тебе глаза ест? Я вам поперек дороги встал?