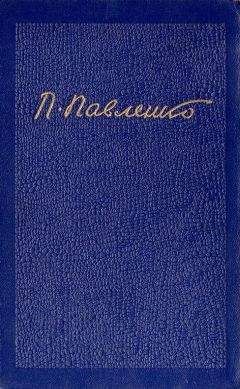— Тогда пусть третья сразу забирает от околицы к станции, — сказал Игнатюк, и кто-то, видно, связной от третьей роты, побежал передать его приказание.
— Выгоном ей надо держаться в таком случае, — заметил Цымбал.
— Выгоном, через мостик и прямо к вокзалу! — крикнул вслед бегущему Воронков.
— Выгоном! — прокричал и Игнатюк. — Через мост!
Ротный сказал:
— Если б не товарищ Цымбал — побегали бы и мы из хаты в хату, как первая бегает. Чорт ее, всюду стрельба, всюду немец мерещится… Не сразу угадаешь, какое направление взять — а так, со своим регулировщиком четко вышло…
— Обязательно доложу полковнику. Здорово… А это что? — испуганно спросил Игнатюк, заметив группу красноармейцев с мешками на спинах.
— Мои, мои, — успокоил ротный. — Складчишко один прибираем, пока не поздно.
— Дело. Раненых много?
— Есть, — коротко доложил Воронков и сказал заметно оживленнее: — Три пары коней артиллерийских я взял, два миномета, автоматов штук сорок. Котлами разжился, вот чему рад. Эмалированные… Ведер на двадцать каждый…
— Где у них тут склады были?
Цымбал махнул в сторону вокзала.
— Все там.
— Сейчас же обозы подтягивай, слышишь? — сказал Игнатюк Воронкову и поглядел назад — далеко ли первая.
Раненый с перевязанной рукой, прихрамывая на одну ногу, прошел мимо, что-то жуя.
Игнатюк остановил его.
— Стой, стой… Что у тебя?
— Хлебца сладкого добыли, товарищ капитан.
— А ну, отломи.
Хлеб был желтый, с изюмом и на вкус ароматно сладок.
— Это кекс называется, — сказал капитан. — Его с чаем хорошо пить. Сколько получил?
— По целой буханке вышло, — хвастливо сказал раненый. Пятый взвод на четырех буханку делил, а наш взводный сразу махнул по целой.
— Правильный взводный. Ну, счастливо, шагай.
Усталость почти погасла. Сознание работало плавно, спокойно.
— Соседи поотстали, — довольно сказал он. — Так что, слава богу, и цветов некому подносить. Только если вы теперь с обозами, Воронков, проканителитесь, вы мне все трофеи сорвете. Слышите? Передай первой и третьей — меня искать в районе церкви, у станции. В клещи их все-таки возьмем, видно.
— Клещи получаются, — соглашался Цымбал. — Только замкнутся они подальше, за станцией.
— Воронков! Ты со своими на станции не задерживайся. И вообще, кто бы ни подошел, выдвигайтесь за станцию… Ффу, устал я, к чортовой матери… Не люблю я за это атаки, товарищ Цымбал, набегаешься в них, накричишься. Связь имеем?.. Ладно. Докладывайте командиру полка — бой идет на западной окраине, подвигается к станции… Внучка-то ваша как прошла, благополучно? — вдруг вспомнив, спросил он Цымбала.
Тот молчал.
— Где она сейчас?
— Там, — старик неопределенно махнул рукой в сторону все того же вокзала.
— Надо будет и о ней доложить. Вы «за Отечественную войну» не представлялись? Пора, пора… И слушай, начальник штаба, сейчас же запроси списки отличившихся, приедет Добрых или сам командир дивизии, чтоб сразу и доложить. Понял?
Кряхтя, поднялся с завалинки.
— Пойдем, товарищ Цымбал. Часика на два работы хватит, а там закусим, чем бог послал. Мне командир полка за станицу два литра какой-то своей настойки обещал. Он нас таким мухобоем угощает, как только живы, не знаю.
Бой прорвался, как прорывает плотину полая, весенняя вода. Батальон за батальоном и танк за танком входили с разных концов в станицу.
Веселый хмель наступления горячил силы. Победа казалась обязательно впереди, еще чуть дальше, еще в двух шагах. Только смерть могла остановить сейчас красноармейца, который, откинув на затылок шлем, вымазанный в грязи и похожий на печной горшок, распахнув ворот гимнастерки, из-под которой багровела сафьяново-жесткая шея, бежал, сопя, хрипя, захлебываясь вперед и вперед, все вперед, где мерещилась ему вражеская спина, ожидающая штыка.
Танкист, перегнувшись из люка, стучал в окно хаты.
— Дайте проводника!.. Наперерез выскакиваем!
Мальчишка лет тринадцати в коротких штанах, босой, без шапки, вскочил на корпус танка.
— Газуй, командир, прямо, потом скажу!..
Женщина, пряча ребенка в складках широкой юбки, кричала отчаянным, кладбищенским голосом, как кричат над покойником, нараспев, привывая:
— Заразы! Заразы окаянные!.. Немец посеред остался… Ой, душеньку свою загубите, вертайте вправо… немец посеред остался!..
И кто-то огромный, страшный, тяжело топоча сапогами, налетел на нее, она что-то показала ему, и он сразу понял, круто свернул в проулок и хрипло, победоносно, как олень, выкрикнул:
— Ура!.. Выходи!.. Ура, советская власть!
Почти в каждом квартале горело. Тут и там что-то взрывалось. Раненые немцы с помертвевшими от ужаса лицами стояли в свете зарез с поднятыми руками. Человек в сером свитере с белым воротничком, сидя на ученической парте рядом с горящей школой, писал на обороте немецких военных карт (их валялось тут много) объявление к жителям.
Его окружали ребята.
— Кого секретарем завокзального порядка? — спрашивал пишущий.
— Меня, меня!.. Его, его!.. — кричали десятки возбужденных ребяческих голосов.
— А в Приречье кого?
— Меня пошлите! Нас троих!
К пожарам, чтобы быть на виду, подходили и свежие раненые. Их действительно узнавали издалека. Скрипели разбухшие калитки, — хозяйки с глечиками в руках, крестясь на ходу, перебегали уже спокойную, отвоевавшую свою улицу и окружали раненых.
Шоферы трудились над брошенными автомобилями.
Вдруг, среди шума и грохотов, раздавался звонкий мальчишеский свист:
— Сю-ю-да-а!.. Немцы сховались…
Зажав в руке шведский ключ, кто-нибудь из шоферов бросался на свист.
Входили обозы, автомобильные колонны, пешие, конные. У складов появились первые часовые.
Группа пленных проехала на трофейных грузовиках.
— Любители они пленных брать, — удивленно сказал Игнатюк. — Я о шоферах говорю. Конечно, ему легко, брось пленного в кузов — и жми. А вот возьмет немца в плен наш брат, стрелок, — замучается до сумасшествия. Туда — не берут, сюда — не пускают, там — поздно, здесь — пока рановато. Их пока, дьяволов, сдашь, семь потов сгонишь. Ну, конечно, когда большое число, тогда…
Игнатюк и Цымбал вышли на маленькую привокзальную площадь, освещенную двумя пожарами. Она была пустынна, лишь в глубине ее, у разрушенного вокзального здания, лежало несколько тел, издалека непонятно — чьих.
— Вот она, — тревожно сказал Цымбал, — вы интересовались, где внучка? Вот она!
И опередив капитана, он мелкими старческими шагами засеменил к расстрелянным.
Пламя пожара, бросая свет и тени на трупы, создавало иллюзию жизни, фигуры расстрелянных как бы вздрагивали и подергивались в ознобе.
— Не успели, — сказал Игнатюк. — Этого я себе никогда не прощу.
Площадь точно ждала появления людей, имеющих право говорить вслух. От домовых стен робко отделились багрово-черные и ало-сияющие фигуры женщин. Улицы, деловито пробегавшие мимо, тоже как бы все сразу свернули к площади. Стало людно.
Опустившись на одно колено, Опанас Иванович медленно и осторожно стирал с губ Ксени тонкую струйку крови.
Ксеня была такою же, как час назад, у капитана Игнатюка. Чуть побледневшее лицо ее сохраняло выражение взволнованности, губы были упрямо сжаты, и только остановившийся взгляд озлобленно раскрытых глаз нарушал общую замкнутость, собранность и затаенность ее фигуры.
Подъехавший командир полка, майор Добрых, распорядился перенести расстрелянных в вокзальное здание.
Подбежали жители, осторожно приподняли тела. Опанас Иванович, держа в руках окровавленный платок, не двинулся с места. Он только смотрел, как несли Ксеню, и рука его вздрагивала, точно он боялся за каждый толчок.
— Что же ты это, брат, — недовольно сказал Добрых Игнатюку. — Как это случилось, кто видел?
Женщины, обступив майора, стали наперебой рассказывать, пугливо оглядываясь на Опанаса Ивановича. Отправляя последний — под выстрелами второй роты — поезд, немцы из озорства начали загонять в пустые вагоны жителей. Попала между ними и Ксеня.
— Ей бы, конечное дело, смолчать. Поезд и двух шагов не прошел, как вы подбежали, — рассказывала бойкая женщина в изодранном мужском пиджаке. — А девочка возьми да и крикни: «Бейте их, окаянных! В плен берите!» Ну, прямо, знаете, глупость какая-то нашла на нее. Какое тут «в плен», вы сами подумайте… ну, и трахнул какой-то, и всех положил… как это у нее с языка сорвалось…
— Да ведь и сейчас совсем тепленькая, — вздохнул кто-то. — Лобик прямо живой, живой, чуть только похолодел…
Игнатюк скрипнул зубами. Нашли о чем говорить сейчас.
Добрых подошел к Опанасу Ивановичу.