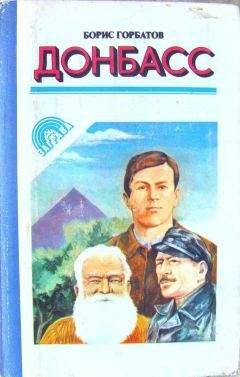Рядом негромко и согласно пели ребята. Пели коногонскую:
Гудки тревожно прогуде-е-ели,
Шахтеры с лампочками идут…
А молодо-о-ого коного-о-она
С разбитой головой несут…
В конюшню незаметно вошел Прокоп Максимович Лесняк, начальник участка «Дальний Запад». Задержавшись на пороге и подняв лампу-надзорку, он привычно придирчивым десятницким взглядом окинул все перед собою. В подземной конюшие, где раньше стояло до пятидесяти лошадей, сейчас было пустынно и прохладно. Конюшня доживала свой последний час. От нее отлетал уже теплый, жилой, домовитый дух. Вот уведут коней, выметут сор и гнилую солому, сломают переборки и денники, переделают все — и будет уже не конюшня, а депо электровозов. Только запах останется, запах старой рудничной конюшни: прелого сена, конского пота, навоза, крысиного помета и ременной кожи. Запахи живут неистребимо долго.
Ребята пели:
Прощай, проходка коренна-а-ая!..
Прощайте, Запад и Восток!..
И ты, Маруся лампова-а-ая,
И ты, буланый мой конек!..
Песня была старинная, жалостливая, со слезой, но коногоны пели ее равнодушно, бесчувственно и даже, как показалось Прокопу Максимовичу, чуть-чуть насмешливо. Старая песня не шла сейчас ни к месту, ни к настроению. Ее пели просто потому, что другой, подходящей к случаю, не оказалось. «Вот банты нашлись, а песни нету!» — огорченно подумал старик.
Он подошел к лошадям.
— А это вы правильно догадались, хлопцы! — сказал он коногонам вместо приветствия. — И ленты, гляди, припасли?.. Ну и ну!.. Молодцы! Красивая ваша инициатива.
— Так ведь как же, товарищ начальник? — отозвался кучерявый смешливый Вася Плетнев, водитель Стрепета. — Ведь это ж какие кони? Это ж кони заслуженные. Им хоть сейчас медали давай. Али пенсию… — Он звонко захохотал, и резвый Стрепет тотчас же и охотно ответил ему коротким веселым ржанием.
— Ишь ты, понимает! — удивился Вася.
— Ну, а ты, Никифор, как с собой порешил? — спросил начальник, подходя к Бубнову.
— Да все то же… — нехотя отозвался тот.
— Значит, на конный двор?
— Куда ж еще, Прокоп Максимович?
— Как это — куда? — вдруг рассердился старик. — Что ж, в шахте и делов больше нет без твоей Чайки? Ну, своего ума нет — у молодежи займи. Эй, хлопцы! — зычно крикнул он, обернувшись. — Определить, что ль, на новую службу?
— Определить, Прокоп Максимович! — опять вперед всех весело откликнулся Вася. — Сменили соху на трак-тор.
— Вот видишь? А тоже ваш брат — коногоны…
— Да какие ж они коногоны, Прокоп Максимович? — незлобиво возразил Бубнов. Потом вздохнул и, как бы оправдываясь, прибавил: — Да и Чайка без меня скучать будет.
Прокоп Максимович сердито покосился на Чайку.
— Ну, недолго-то ей и скучать осталось! — проворчал он.
— Я и похороню, — тихо сказал коногон.
А Чайка по-прежнему стояла, понурив голову, равнодушная и к лентам, и к бантам, и к своей судьбе, и что-то бесконечно унылое и горькое было в этой заморенной работой кляче, в том, как она стояла, покорно расставив ноги, готовая ко всему, в том, как неподвижно висел ее жалкий, обтрепанный, обкусанный рудничными крысами хвост. Ее подслеповатые глаза, много лет не видевшие солнца, слезились; губы чуть слышно двигались — должно быть, жевали. Прокоп Максимович положил ладонь на потную холку Чайки — она и не вздрогнула. Только минуту спустя подняла вверх свою печальную умную морду, тяжко вздохнула или зевнула и опять безучастно понурилась.
— Да-а… — задумчиво произнес Лесняк. — Лошадиный век — недолгий. А какой конь был, а? Сатана!
— Значит, помните, Прокоп Максимович? — благодарно шепнул Бубнов.
— Как не помнить! — усмехнулся старик. — Сатана!
Он, действительно, помнил Чайку Сатаною, как помнил всех лошадей на «Крутой Марии» — и этих, что стояли сейчас в конюшне, и тех, что были до них, и даже тех, что некогда, лет сорок пять тому назад, когда сам он был мальчишкой-тормозным, ходили в упряжке по коренным и продольным старой шахты; а особенно того чубарого жеребчика, на котором Прошка Лесняк выехал в свой первый самостоятельный рейс. Прокоп прозвал его Земляком: чубарый был орловец.
Земляк погиб той же осенью, на уклоне. Его задавила разорвавшаяся «партия» вагонов. Страшно умирал этот добрый, работящий коняга, умирал, как шахтер, не крича и не жалуясь, и только белая слеза дрожала в его скорбных, почти человеческих глазах, — а Прокоп ничем не мог помочь товарищу. Он сам лежал полуживой в мрачном, пустынном штреке, среди вздыбившихся и опрокинутых вагонеток.
Земляка пристрелили, а Прошку уволокли на-гора, в больницу, — умирать, как в песне о коногоне поется. Но он не умер. Выжил. И опять вернулся на шахту, — куда ж еще было деваться? И опять сел на «партию», и не на второй, а на первый вагончик. Это запрещала инструкция, но этого непременно требовал обычай — закон коногонского молодечества. А когда выехал на знакомый подъем, свистнул, что было духу, — думал, будет, как прежде, лихо и весело, а вышло тоскливо…
Незнакомым, чужим, каким-то скучным голосом отозвался новый конь и подъема не взял. Прокоп зло вытянул его кнутом, раз, другой, третий… А Земляка он никогда не бил. Земляк слово понимал. И, вспомнив о Земляке, вдруг заплакал пятнадцатилетний Прошка, и плакал долго и сладко, один в глухом штреке. Потом он привык к новому коню. Назвал его Лодырем.
Лодыря сменил Буян, Буяна — Ласточка, Ласточку — Куцый; много коней протрусило по темным штрекам шахты под его кнутом, пока не стал Прошка Прокопом Максимовичем и не перешел в забой. И теперь старику казалось, что это молодость его пронеслась вскачь на перекладных, пронеслась и — растаяла… Пять-семь коней — вот и вся молодость.
Ах, Ваня, Ваня, бедный Ва-а-ня,
Зачем лошадку шибко гнал?
Али ты штегеря боя-я-ялся,
Али в контору задолжал? —
пели ребята и, как это всегда бывает, песня невольно вела и направляла думы Прокопа Максимовича. Может быть, хлопцы и не зря завели сегодня, на прощание, эту старинную песню?
Нет, не обычай требовал от коногонов ухарства и молодечества, а копейка. Копейка-то и родила обычаи.
Ради окаянной лишней копейки гнали, что было мочи, лошадей. Нещадно били их батогами и даже на уклоне не останавливались, а, рискуя собственной шкурой, на ходу вставляли ручной тормоз в колеса (для того и сидели на переднем вагончике) и при этом часто калечились сами и калечили лошадей. В те поры штреки были узкие, низкие, «зажатые», как говорят шахтеры, крепление было худое; пути — неисправные, нечищенные, мокрые; разминовок — мало; в колеях вечно хлюпала жидкая грязь, и каждый день что-нибудь да случалось на откатке. То вдруг, на полном ходу, забуривался вагончик, сходил с рельсов, корежа партию; то срывался «орел», все давя на своем пути; то приключилась «свадьба на уклоне»: вагонетки налетали одна на другую, все путалось, ломалось, вздыбливалось; ругались коногоны, проклиная и шахту, и бога, и весь белый свет; на рельсах в судорогах, гремя цепями, бились искалеченные кони; предсмертно хрипели раздавленные люди, — «свадьба» часто кончалась похоронами.
Хоронили тут же, неподалеку от шахты, в Сухой балке. И отпевать не нужно: коногона уже при жизни отпели.
«Ох, и окаянное же это было время, и должность эта была самая что ни на есть окаянная, отчаянная. Нынешние коногоны об этом только понаслышке и знают».
А теперь уходят кони из шахты. Наконец уходят. В последний раз сегодня простучат лошадиные копыта под сводами квершлага, в последний раз донесется из тьмы пронзительный коногонский свист и — стихнет. Навсегда. Идет тысяча девятьсот сороковой год. И в бывшей конюшне на «Крутой Марии» будет депо электровозов. «А важное выйдет депо, богатое!» — вдруг подумал Прокоп Максимович Лесняк.
Уходят кони из шахты… Навсегда уходят. И что-то неощутимое, невидимое, но живое, сущее и страшное уходит вместе с ними. Навсегда. Навеки веков.
— Удивительно, — сказал Прокоп Максимович, ероша рукой шерстку на костлявой спине Чайки. — Нет, прямо удивления достойно: как же это ты Чайку свою сберег, Бобыль, а?
Бубнов только застенчиво потупился.
— Ведь она, небось, лет десять в упряжке ходит? — снова спросил Лесняк.
— Ровно десять.
— Вот я и говорю: удивительно! — И старик с любопытством посмотрел на коногона: ему вспомнилась нашумевшая когда-то на шахте история Чайки-Сатаны. В той истории было три главных действующих лица: сама Чайка, коногон Савка Кугут да Бобыль.
Бобылем Никифора прозвали в первый же день его появления на «Крутой Марии», лет пятнадцать тому назад. Вот как это случилось. «Ты кто? — строго спросил десятник Сиромаха, гроза новичков, заприметив на наряде рыжую домотканую свитку и лапти Никифора. — Ты кто-о?..» Бубнов растерялся. «Я-то? — пробормотал он. — А я… я — бобыль». Это было его официальное деревенское звание, он и сказал его. С тех пор иначе, как Бобылем, его уж и не звали.