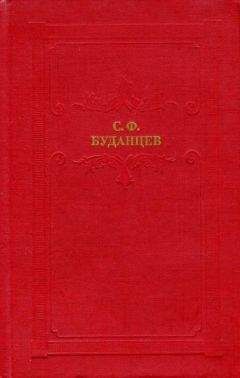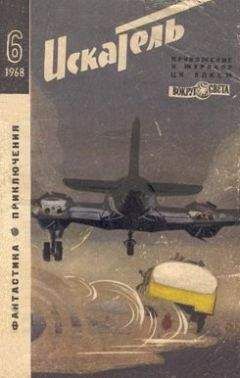В широком пальто и пушистом кепи, в недешевой и красивой одежде, Воробков производил смятение среди ребят на улиц.
— Чарли Чаплин! — кричали ему вслед.
И он тщеславно понес свое призрачное сходство.
Бабы сторонились его, как отверженного, останавливались, долго смотрели ему в спину. В торговых кварталах улицы были шире, грязь жиже, и бедность прохожих еще больше бросалась в глаза. Воробков шествовал крытой галереей гостиного ряда. Запах мануфактуры и убогий блеск галантереи схватили за сердце. Снаружи, на ступеньках, не смея влезть под крышу, примостились бесчисленные нищие. Безрукие, слепые, инвалиды в тележках, бабы с младенцами — все они скулили, ныли, рыдали.
— Никак, Воробков Григорий?
Перед ним остановился рослый рыжий человек в бобриковой куртке, перетянутой почему-то ремнем, отчего вся фигура на тонких ногах в коротеньких брючках походила на гитару, грифом вниз. Григорий Васильевич сразу вспомнил коммерческое училище и Степку Блазнина, сына первого мучника в городе.
— Не стерли, жив! — кричал он. — Цветешь! И тряс руку.
— А Петелина Костю не забыл? На вашей же, Тамбовской, улице дом. Учился в уездном.
Еще бы забыть Петелина, пьяницу с тринадцати лет, знаменитые на весь город голуби. Все сверстники стремились быть в его шайке.
Из-за плеча Степана выглянули опухшие, в красных подушечках глаза, тоже какого-то голубиного отлива, и выдвинулась помятая мордочка под засаленным картузом. Воробков пожал горячие потные дрожащие пальцы знаменитого озорника. Немыслимо вытертое пальто и рваные туфли на Петелине, сильно смахивавшие на опорки, как и запах, распространяемый обоими приятелями, сразу помогли найти нужный тон.
— Где это вы так с утра насосались?
— С вечера до вечера и с ночи до утра! — запел Блазнин.
— Ну, что ж, ради встречи к Егорычу? — воскликнул Петелин, перебивая, и боязливо скривил губу: вдруг не согласятся?
— Неужто и Егорыч существует?
Егорыч, славный шинкарь довоенных времен, у которого пьянствовали все учащиеся города, как оказалось, теперь заведовал пивной кооператива. Он приветливо сквернословил у стойки, как встарь. Сидя за столиком и прихлебывая пиво, Блазнин и Воробков, перебивая друг друга, припоминали пьяные проказы юности. Но они были однообразны, восклицаний хватило ненадолго.
— Бывало, забежим к нему вечерком, норма была — бутылка втроем, по чайному стакану выпьем, хлебушком закусим — и на Московскую!
Петелин сбегал за водкой. Воробков отказался.
— А в те времена какой вкусной она была, и хмель был неземной.
— Ну, она и теперь хороша, — заметил Петелин.
Он только что вышел из тюрьмы, разговаривал на непонятном языке, остроумничал об алиментах и абортах. Блазнин заливался частыми и тонкими смешками. Воробков в годы ученья не очень водился с ровесниками. В зрелости и в Москве, уважая столичное общество, он привык к людям, к шуму. Он был безоружен против афоризмов Ланина, едкости Несветевича, от докучной же провинциальной болтовни легко защищался вялой скукой и высокомерно предавался своим размышлениям. Опьянев, Блазнин помрачнел.
— Прозябаем, Гриша, делов никаких. Даже все наши барышненки в Москву подались. Содержать хороших женщин не на что.
— Да наши-то, поди, все старые, — сказал Воробков. — Детей понарожали. Кончилась, брат, молодость!
Поговорили о тяжести налогов. Пивная наполнялась народом, воздух густел от дыма и дыхания, в свете дня лица казались неестественными. Воробков высказал наблюдение, которое давно его раздражало.
— Во всем городе никто ни черта не делает! Все разваливается, приходит в упадок. Даже за собственными домами не следят, ставни висят на одной петле, ворота осели, не открываются, запущено, с улицы видно. Если в России все так работают, с утра в пивной, то неизвестно, как мы живем. Эх вы, мелкая буржуазия! Ни торговли, ни промышленности.
Блазнин обиделся.
— Вы в Москве пупки над работой рвете. А сейчас народ в пивную набивается парад смотреть, отсюда всю площадь соборную видать. Нынче наша пожарная команда семьдесят пять лет с основания справляет, и начальник ее, знаменитый товарищ Бибиков, в Воронеж переводится.
Петелин же добавил:
— На вокзале проводы, всей командой туда поедут, — хоть весь город гори. Дело общественное!
Воробков пил осторожно, но от шума, чада, хлопающих пробок в голове прочно и весело зашумело, все хотелось сказать что-нибудь удивительное, совершить такое же. Они вышли из пивной. На панелях густо толпился народ. Яростно гремел кавалерийский марш. Каски пожарных казались Григорию Васильевичу воплощением янтарного пивного хмеля. Звон, дребезг машин, оратор на дощатой трибуне посреди площади, оживление — все это было словно порожденным собственным его воображением.
— «Будь же ты вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть», — произносил он шепотом, почти беззвучно и незаметно в шуме и толкотне зевак. Приятели его были навеселе. Вскоре, шлепая по грязи, проехали пожарные машины.
— К четырехчасовому на вокзал хотят поспеть, начальство провожать, — сказал Петелин. — Теперь выпьют, пока домой доберутся, до каланчи, хоть весь город жги, — повторил он давешнюю выдумку, заспешил куда-то, простился торопливо.
— Я тебя до дому провожу, — предложил Блазнин. — Скрутился парень, — он кивнул вслед Петелину. — Одинок, как осина на юру. Всю жизнь сиротой рос, ни отца, ни матери.
— И я теперь сирота, — отозвался горестно Григорий Васильевич.
В голове шумело, все думалось, что надо что-то совершить. Блазнин нудно рассказывал историю падений Петелина. Григорий Васильевич рад был с ним расстаться.
Дома встретила сварливая Маланья, приходящая кухарка.
— Ждала вас, ждала, Григорий Васильевич, все глаза проглядела. Ваши не ждать их до вечера приказали. Ко всенощной в Пушкари пойдут. Я пораньше нынче отпросилась, сестра из деревни приехала. Вот-те и ушла пораньше!
Воробков остался один в темном, жарко натопленном доме, Топили, должно быть, в первый раз, припахивало угаром. В зале, где лежала мать, усилился запах ладана. Полы скрипели за его шагами..
В первый раз он подумал неприязненно о девственности Лизы. «Жениться придется. Скука! Хоть бы сгорело все к черту, пока пожарники пьянствуют». Взглянул на часы, было без четверти четыре.
— Можно и чай скипятить, — сказал он вслух, громко, и стало не по себе от собственного голоса.
7
С этого момента все движения Григория Васильевича потеряли обычную неслаженность, медлительность, сделались четкими и меткими. Он умело разжег примус, накачал его до отказа, поставил чайник. Затем нашел четвертную бутыль с бензином, теплую и скользкую: жидкость плеснулась со стоном, поставил рядом с горящим, готовым запрыгать от напряжения примусом.
— Черт с ним, пускай взорвется! — опять громко сказал Григорий Васильевич, заглушая шипящее пламя. — Пять тысяч.
Он мог бы сравнить свои действия, мысли и ощущения с одержимостью сладострастника, который добивается запретной женщины. Желание прорывается с такой силой, что все запреты, построения разума и осторожности снесены, смыты и во всем существе победно шумит этот поток направленных к одной цели стремлений. Это не беспамятство. Такой сладострастник заранее обдумывает все препятствия, но даже самые грозные кажутся преодолимыми, предусматривает, все последствия, но они могут и не произойти, и такая пустая отговорка гремит, как колокол. Концы пальцев похолодели вдохновенно, где-то у лопаток ощутимо окрепли мускулы, грудная клетка развернулась, он дышал глубоко и часто. Быстро выбежал из кухни. Отчетливо возникали решения: купить булок к чаю и печенья. После того как был найден предлог для ухода из дома, он мгновенно отбросил мысль о том, что неосторожно не обставлять такие дела заранее предусмотренными оправдательными поступками. Пойти в булочную за покупками, когда нет никого дома, — так естественно, гениально просто. И Воробков торжествовал. «Под страховую премию даст и Бернштейн по первому слову». Улицей он поспешал, удаляясь от дома, но в булочной выбирал пирожное долго, внимательно, спрашивая рекомендации рябой продавщицы. Одно, особо похваленное ею, съел, запивая водою. Липкий бисквит становился поперек горла. Далее разговор зашел о торте, но торт оказался не очень свежим. Воробков ел, разговаривал, посмеивался и ожидал, заранее вздрагивая, какого-нибудь знака с мертвой улицы о том, что ему надо бросить все и бежать к дому. Какой, в сущности, тонкой перегородкой едва сдерживаемых под покровом кожи личных мускулов скрыты его страх и томление! И когда вдруг раздался и сразу погас крик (воображение само наделило его словом «пожар»), крик, который, как бледный свет на дороге, никто и не заметил, — Воробков едва не застонал от облегчения, удачи, от счастья, почувствовал прилив нового озорства и спросил смеющимся, клекочущим фальцетом: