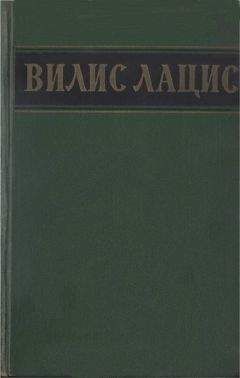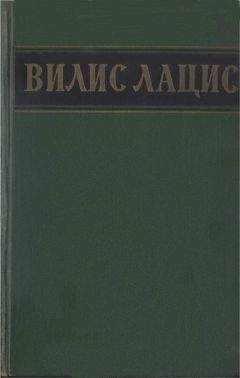— Так что же вам угодно? — спросил Жубур. Я очень занят, и если вы по делу, выкладывайте сразу.
Симан Ерум, он же Большой Тяутис, сделал вид, что не замечает холодности Жубура.
— Занят, говоришь? Ну, конечно, у тебя много работы. У больших людей работы невпроворот.
— Я вовсе не большой человек, а обыкновенный студент. Учусь и работаю.
— А разве не коммунист?
— Да, я коммунист.
— Мне того только и надо. — Ерум повернулся всем своим грузным телом к Жубуру, буравя его наглыми глазами. — У тебя ведь своего хозяйства не имеется?
— Откуда ему у меня взяться?
— Я так и знал. Ну, ты, конечно, не думаешь весь век прожить без кола, без двора? При одной только должности человек еще не человек. Вспомни, как бывало при Ульманисе, — у каждого министра, у каждого директора что-нибудь да было в деревне. Или там мельница, или именьице, или дача. Без этого нельзя. У кого земля, тот на ногах крепче стоит. Земля никогда не пропадет, какие бы времена ни наступили. Тебе, милый родственник, тоже надо подумать о себе. Если пожелаешь, могу это устроить без всяких хлопот. У меня в Больших Тяутях сорок гектаров. Десять прошлой осенью отрезали и зачислили в государственный фонд, но еще никому не передали. Почему бы тебе не истребовать их для себя?
— Что мне с ними делать? — нехотя усмехнулся Жубур.
— Погоди, погоди, пусть она хоть считается за тобой. Тогда никто больше не сунется, а земля останется за Большими Тяутями. Если ты еще холостой, женись, пусть там хозяйничает жена. Мы бы тебе нашли хорошую девку, хозяйскую дочь. Круглую, мягкую, как слива… Спокойнее ведь, когда земля не в чужих руках. Как ты на это смотришь?
«Сразу видно — беспардонный нахал», — подумал Жубур.
— Если вам тяжело глядеть на бесхозяйную землю, я пошлю письмо в волисполком и попрошу скорее передать эти десять гектаров кому-нибудь из безземельных.
— Никак ты с ума сошел? — разволновался Ерум. — Прошлой осенью еле уговорил волостного писаря, чтобы скрыл в актах… отвез за это целую кадку масла, свиной окорок… Ишь, какой торопыга! Если тебе самому не нужно, пусть лучше останется как есть. Как-нибудь вывернусь. Карл, сынок, а ты бы все-таки подумал… У тебя знакомства с набольшими. Замолви словечко, пусть меня назначат председателем в волость. При Ульманисе я четыре года проработал помощником. Опыт изрядный. Не все же одной мелкоте управлять.
— Крупные достаточно повластвовали. Пусть поработают и бедняки.
— Родственникам не грех бы и помочь, — не унимался Ерум. — Соседи мне все уши прожужжали: «Что ты за человек, при таких родственниках и не можешь получить в волости хорошее место». На смех подняли. А если бы меня назначили председателем, все бы устроилось. Нельзя же так, надо кому-то заступаться и за старых хозяев. Порадей уж, милый.
Жубур еле сдерживался. Откровенный цинизм старика граничил с простодушием.
— Знаете что, — медленно сказал он. — После смерти родителей у меня родственников больше не осталось. Для меня существуют только хорошие люди и плохие, честные и мошенники. Вы принадлежите к последним.
— Кто это про меня так говорит? — вздыбился Ерум.
— Я, черт возьми, говорю! Уходите-ка вы лучше! Берите шапку и вон отсюда!
— С чего это ты? — удивился Ерум. — За что ты на меня так? Что я тебе плохого сделал?
— В глаза вы плюете народу — вот что! И я постараюсь, чтобы для этих десяти гектаров нашелся хозяин нынешней же весною. Ну, чего вы еще ждете? Можете идти.
— Господи, зазнался-то как, — покачивал головой Ерум. — Ну, не ожидал. Я к нему как к родному, а он как зверь…
Бормоча и вздыхая, он вышел. Жубур откинулся на спинку стула и вытер лоб платком.
«И каких только подлецов не бывает на свете… Нашелся милый родственничек…»
Раздался телефонный звонок. Жубур снял трубку.
— Слушаю. У телефона Жубур.
— Почему ты такой сердитый? — Жубур узнал голос Мары, и дурное настроение его мигом улетучилось. — На работе что-нибудь?
— Ты угадала. С кем только не приходится сталкиваться за день.
— Оказывается, не вовремя позвонила. Я хотела попросить тебя зайти сегодня вечером, хотя бы ненадолго. Врач велел несколько дней полежать, и я эти дни никуда не выхожу. Наверно, немного переутомилась, готовили постановку к декаде.
— Почему ты раньше не позвонила? Конечно, приду, сегодня же вечером приду. Но ты уж извини, не раньше десяти.
— Приходи, когда освободишься. Я знаю, сколько у тебя дел. Ну, всего…
4
Его впустила мать Мары.
— Заходите, заходите, вас давно ждут, — весело сказала старушка. Несмотря на свои шестьдесят лет, двигалась она проворно, а в волосах у нее лишь чуть проступали седые нити.
— Что с Марой? — спросил Жубур, снимая пальто. — Может быть, нехорошо, что я ее тревожу?
Умные, улыбающиеся глаза старушки ласково глядели на него.
— Не так уж плохо. Сегодня голова не болит. Хочет завтра идти на работу, а вы постарайтесь уговорить ее, чтобы полежала до понедельника.
И снова она стала воплощением простодушия, по Жубур понял, что она, со своим опытом повидавшего жизнь человека, уже все угадала: и то, что было, и то, что может когда-нибудь сбыться. Ему стало чуть-чуть неловко.
— Хорошо, мамаша, — ответил он. — Сделаю все, что от меня зависит, чтоб Мара осталась дома несколько дней. За год наработается.
Он тихо вошел в маленькую спальню и, пожав теплую, влажную руку Мары, сел возле кровати.
— Так-то ты вспоминаешь про своих друзей?
Мара улыбнулась. Лицо ее залилось лихорадочным румянцем.
— Нельзя же поднимать на ноги весь свет из-за того, что немного поднялась температура.
— Что врач, аккуратно навещает?
— Сегодня приходил. Да ничего серьезного, сильная головная боль — вот и все. Приходится принимать порошки и лежать. Наверное, в понедельник ночью простудилась, когда шла из театра. Мне ведь не много надо… Ну, а как твои дела? Скоро экзамены?
— Через неделю начнутся.
— И со вторым курсом будет покончено?
— Да, как будто. И хотя нас пока еще пичкают школой профессора Балодиса, — у старого Атлантика[57] здесь много приверженцев, — однако советская политэкономия начинает укореняться, и я полагаю, что по окончании факультета мы уже не будем такими невеждами.
— Ты и следующую, зиму собираешься учиться? Работать и заниматься?
— И следующую после нее тоже. Пока не кончу.
— Откуда у вас всех такая сумасшедшая выдержка? Как вы это можете?
— Все мы росли в суровых условиях, Мара. Жизнь нас раньше не баловала, потому мы такие крепкие.
Зазвонил телефон. Жубур опередил Мару и снял трубку.
— Квартира Мары Павулан. У телефона врач. Кто? Здравствуйте, товарищ Калей. Нельзя сказать, что хуже. Скорее бы сказал, что дело идет к улучшению. Только что измерили температуру — 38,2. Советую пробыть дома до понедельника. Понятно, понятно, товарищ Калей… Вполне сможет выступить в приемочном спектакле. Даю вам честное слово врача, что сделаю все возможное. Привет, товарищ Калей.
Он положил трубку и посмотрел на Мару.
— Ты с ума сошел, Карл, — испуганно зашептала она. — Что ты ему наговорил? Что мне еще надо лежать до понедельника?
— Да, и Калей принял это без всяких трагических переживаний. Сказал, что до понедельника ничего особенного не предвидится.
— А приемка пьесы к декаде латышского искусства? Я не могу допустить, чтобы ее принимали без моего участия. Раз в жизни выпало счастье играть в Москве, в центре непревзойденного театрального искусства… Нет, я свою роль никому не уступлю.
— Успокойся, Мара. — Жубур погладил ее руку. — Просмотр пьесы назначен на следующий четверг. Генеральные репетиции будут в понедельник и вторник. Куда тебе спешить? Что, ты роль, не разработала? Не знаешь текста?
Мара сердито посмотрела на него и тут же рассмеялась.
— Текст знаю наизусть, и роль у меня готова. Но для чего ты подшутил над Калеем? Он чудесный человек. Лучшего директора у нас никогда не было.
— После того как закончится в Москве декада искусств, — а мы все уверены, что она пройдет с успехом, — я ему сам все расскажу. Пусть тогда спускает с меня шкуру. Что, замирает сердечко? Подумай только — Москва…
— Москва… — шептала Мара. Радость, гордость, нетерпение — все было вложено в это слово. — Может быть, товарищ Сталин придет посмотреть на нашу игру?
— Вполне возможно, Мара.
— Иногда даже страшно становится, как подумаешь, что придется играть на московской сцене, перед зрителями, которые видели Ермолову и Щукина, Качалова, Москвина, Хмелева, Тарасову… — продолжала Мара. — Там до сих пор звучат голоса Льва Толстого, Горького, Чайковского и Глинки. А сколько новых советских мастеров… какие огромные духовные богатства созданы гением этого великого народа! Я боюсь, Карл, ужасно боюсь, что мы будем там выглядеть маленькими и провинциальными.