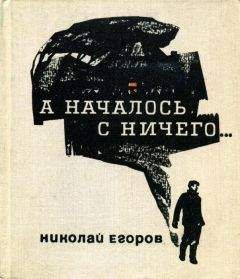— Ершик ты на медной проволочке. Сегодня же сядь и напиши родителям. Пора мужчиной становиться. И чтобы я тебя здесь больше не видел с такими заявлениями. Волю надо иметь.
Вскоре и вор нашелся. Сыграли «отбой», потушили большой свет. Спать бы да спать после десяти часов занятий, да еще два часа с этим Вовой Шраммом возился: в электротехнике ни бум-бум человек.
Напомогался — голова трещит, уснуть не может. И Кеша Игошин с боку на бок ворочается. Койки рядом, каждое движение передается.
— Тебе-то чего не спится, дергаешься?
— Да… Твердо.
— Принцесса на горошине. Ну-ка, что там у тебя?
Сунул Сергей руку ему под спину — предметы какие-то.
— Что здесь у тебя?
— Да-а, кустпром этот: портсигары да так, мура всякая.
— Постой, постой… Уж не твоя ли работа?
— Разве то работа? Вот на гражданке у меня была работа…
— А если я сейчас отделение подниму?
— Зачем хипишь делать? Сам все раздам. Не беспокойся, я тетрадь учета веду: что, у кого, когда. Ты вот полежи-ка на моем месте. А барахло мне это не нужно.
— Не нужно, а воруешь.
— Зараза. Жизни не рад. Сперва украл — есть хотелось. Второй раз в чужой карман сплавал — деньжонки понадобились. Втянулся. В армию выпросился, думал, у солдата красть нечего — отвыкну. Не могу.
— Что это, хроническая болезнь, что ли?
— Болезнь, болезнь. Обожди, как она называется… Хле… Хлебтомания, во!
— Почему хлеб-томания?
— Откуда я знаю. Наверно, когда еще нечего было воровать людям, хлеб воровали друг у друга. У тебя отец живой?
— Живой.
— Моего убили. Под Сольцами где-то, в Новгородской области.
Минуту помолчали.
— Так ты, Кеша, уж пожалуйста, раздай завтра же всем ребятам.
— Попытаюсь. «Темную» могут сыграть.
Кеша затих и скоро запосапывал, решив, видимо, что вздыхай не вздыхай теперь, а так утром суд и эдак суд. Это если бы прежде, чем пакость сделать, люди ночами не спали, думали о последствиях, то, пожалуй, и судов не было бы.
Кеша успокоился, Сергей нет. Переживает лежит.
Ну вот почему воруют? На все есть причины, говорят. Кеша на желудок ссылается, голод его заставил. А отца что заставило? Отслужусь — спрошу. Тоже начнет выискивать причины, обстоятельства всякие. Неизлечимых социальных болезней наизобретали себе в оправдание: «хлебтомания», алкоголизм. Ерунда это. Нет, небось, Витьки Подкопаева отцу сказали врачи, что умрешь, — сразу бросил пить. Обстоятельства. Да если я не захочу, меня под ружьем не заставишь воровать. Человек должен быть сильнее обстоятельств, на то он и человеком родится. Кеша, кажется, понял это и рано или поздно исправится. А Илья Анисимович? Посмотрим.
По проходу на цыпочках крался дневальный будить смену.
— Шесть время, через час «подъем». Спать.
Утром, после физзарядки, отправился Кеша по адресам с тетрадью учета и полной наволочкой курсантского добра. Нанес визит, нанес другой — зашушукались. Глядь, у Кеши одеяло на голове. Кулаки замелькали. Герка Волох туда.
— Вы шо, сказылысь, живого чоловика быты? Кызь видциля! — Выгреб «учителей» из прохода, ожидает, когда поостынут. Защитник один, судей пятеро. Ощетинились, напирают.
— Ты… Ну-ка, пусти!
— Нэ пустю.
— Самому влетит.
— А це не нюхалы? — Герка поднес кулачище под нос каждому по очереди — зарасходились.
— Пусть еще попробует только…
— Вин бильше не будэ.
Но Кеша нет-нет да и сорвется. Раз наказали перед строем, два разобрали на открытом комсомольском собрании, а комсомолия крута на решения: не прекратишь это баловство — будем ходатайствовать об отчислении из училища. Прекратил. Так иногда по просьбе вместо фокуса выудит на глазах у всех что-нибудь из чужого кармана.
Герке даже идея пришла. Обрадовался — и к Веретенникову, Веретенников у них самодеятельностью руководит.
— Гарный номер маю, товарищ старшина!
— Ну-ка, ну-ка.
— Представьте соби: полная зала сыдыть. Вызывае конхверансье з той залы курсанта чи охвицера, кладэ у кишеню ему кипу грошей, завьязывае очи и предупреждае: зараз их звистнуть в тэбе. Пиймаешь за руку — твои грошенята, ни — стилько же ж витдаешь своих. Га?
Веретенников сопел, сопел носом на Герку, вздохнул тяжко.
— Волох, тебя в детстве пыльным мешком, случайно, не били?
— Ни, товарищ старшина.
— Ты просто забыл. Соображаешь? Воровство с эстрады пропагандировать.
— Яке воровство? Иллюзия. Хвокус! Хвакира у нашей программе нема же ж.
— Не морочь мне голову.
А Кеша выкинул-таки номер на новогоднем концерте.
Зал полнехонек. Преподаватели, курсанты-отличники, шефы с завода, школьники, из колхоза гости. Раздвинулся занавес — хор человек сто. Поднял дирижер руку — рампа вспыхнула, хоть пожарников вызывай, поднял другую — баяны веерами раскрылись.
Спели «Два сокола ясных», «Все выше и выше», «Вася-Василек». Потом прочитали стихотворение Константина Симонова «Письмо с фронта». Струнный оркестр выступил. За ним:
— Молдаванэску! Исполняет… трио народных инструментов: бубен — курсант Игошин, губная гармошка — курсант Волох, рожок — курсант… курсант… — конферансье глянул в шпаргалку, — Шрамм.
Сергей первый хлопнул в ладоши и толкнул локтем Веретенникова: наши!
Появляются. Два коротыша и верзила. По рядам смешок, жидкие хлопки. Артисты подошли к рампе. Большой в середке и чуть впереди, маленькие по бокам. Поклонились.
И вот пока Герка разгибался, Кеша скользнул двумя пальцами в карман его штанов, выудил губную гармошку, показал ее всем, сделал круговое движение рукой и тут же поднес растопыренную пятерню к вскинутому над головой бубну. Пальцы здесь, гармошка исчезла. Зааплодировали. Герка, решив, что это его так принимают, еще раз переломился пополам. Разогнулся — чувствует: карман легкий. Хлоп по нему — пустой. Хлоп по другому — тоже. Он за нагрудные цап-цап — нету. А у Шрамма уже рожок в губах. Кеша ему:
— Давай цыганочку с выходом, Вовик.
Ударили. Ну, Герман и пошел. А что делать? Не срывать номер. Как сыпанет-сыпанет дробь — в заднем ряду стулья подпрыгивают. Концовку отщелкал по голенищам, прогулялся ладонями от носков до груди, топнул, выдохнул «Ха!» Зал взорвался.
— Би-и-ис!!!
Кеша бубен к сердцу, ресницы опустил, выжидает. Угомонились немного.
— Вношу поправку. Был исполнен русский народный танец… цыганочка с фокусом. — Вытряхнул из рукава губную гармошку, подает Герке.
— Би-и-ис!!
— «Биса» не будет. У цыгана сапог лопнул.
Хохот. Конферансье знак подает: занавес, занавес. Веретенников плечами жмет:
«И когда они успели этот номер подготовить? Цыганочка с фокусом. Хм».
Курсанты учились по двенадцати часов в сутки, до изнеможения. И даже во сне бредили типами моторов, винтами, бензобаками.
И кончилась война. Девятого мая утром раным-рано старшина Веретенников, насмерть напугав дневального, выскочил из своей каптерки босиком в одном нижнем белье и закричал:
— Ребятишки, по-бе-да!! Победа! Мир!
Забегали посыльные, затрезвонили телефоны — все на площадь, училищное построение! На митинг! На митинг!
Училище выстроилось буквой «С». Духовой оркестр исполнил гимн. Генерал поздравил всех с великой победой, поблагодарил преподавателей за подготовку отличных кадров для действующей авиации, и роты разошлись по аудиториям.
Война кончилась, учеба продолжалась. Одолели теорию, познакомились с практикой, сдали государственные экзамены. От каждого классного отделения по курсанту с хорошим почерком засели за характеристики на присвоение званий. Характеристики коротенькие: сын крестьянина или рабочего, дисциплинирован, политически грамотен, предан партии и правительству, в училище показал себя… Но можно бы еще короче: родился при Советской власти и умрет за нее.
Потом радовались новым погонам, присвоенному званию и новой форме обращения к ним: то целый год все курсант да товарищ курсант, а тут вдруг сразу — товарищ сержант или старшина. Смотря кто как учился и сдавал экзамен. Вовке Шрамму ефрейтора пожаловали: ухитрился-таки перепутать аккумулятор с конденсатором. Но Шрамм и ефрейтору рад. Лычки ноготком проутюжил, погоны лодочкой выгнул, любуется на плечи.
— Ну и чин же ж в тэбэ, Вовка, — подковыривает Герка, Герке старшину дали. — Я що-тось поняты не можу: чи скромный старший сержант, чи нахальный ефрейтор? Га?
— Закрой рот, а то верхние зубы выпадут. Если хочешь знать, ефрейтор авиации равен майору пехоты.
— Бывся, бывся з тобой Сережка — и задарма.
— Даром мухи не летают.
В часть назначения ехали по Сибири. Ну и мощь! Ну и громадина! Жили они в ней по семнадцати лет и не знали толком, какая такая есть Сибирь. Ну проходили по географии, водили указкой по карте. А что карта? Раскрашенный лист бумаги на бечевке, масштаб. В натуральную величину Сибирь удивляла силищей и манила недоступностью, как рослая и красивая девушка-кержачка.