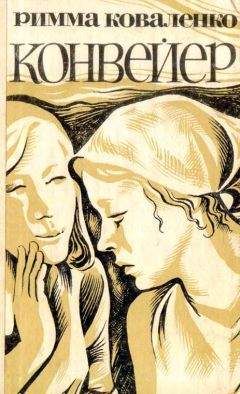Бабушка заполнила нашу небольшую комнату белорусским говором, широкой до пола сборчатой юбкой, своими мешочками с гостинцами и рассказами о деревне. Мать опаздывала на работу, поглядывала на ходики, стучавшие на стене, вздыхала, но уйти почему-то не смела.
— Меня Архип Прасковеин спрашивает, что это за имя такое — Рэма, — чи конское, чи заморское, — говорила бабушка, — а я ему говорю — городское. Они в городе живут и по-городскому имя дают.
Когда мать все-таки осмелилась и ушла на работу, бабушка отрезала мне кусок сала, отломила от каравая горбушку и, пока я ела, приговаривала:
— Сала кусай поменьше, хлеба побольше и не глотай, не давись, пусть давятся те, кто украл или у голодного отобрал.
Она не спрашивала, как мы тут живем вдвоем, какие новости в городе. Вся жизнь в ее представлении могла быть и была только в деревне. Город для нее существовал постольку, поскольку жили в нем ее дочь и внучка.
— А это тебе от Прасковеи Архиповой, — бабушка полезла в карман своей сборчатой юбки и достала узелочек с тыквенными семечками. — Ты хоть помнишь Прасковею? Она была у нас запрошлым летом. Ты еще с ней картинку мне послала: домик с крылечком. Федька ту картинку на стену повесил, а коза в окно голову всунула и сжамкала. — Бабушка засмеялась.
Архип Прасковеин, Прасковея Архипова — у них в деревне редко кого называли по фамилии. Архип был мужем Прасковеи, а Прасковея женой Архипа. А бабушка была в деревне Евсеевой, по имени законного мужа Евсея, который погиб в японскую войну, не оставив детей. Четырех дочерей бабушка родила от моего родного деда Макара, с которым не венчалась, так как «с детьми малыми на паперти стоять можно, а под венцом — только дураков веселить».
Бабушка быстро нашла себе дело: растопила печь, стала чистить картошку, — тоненькая, с безотрывными колечками кожура крутилась под ножом и падала на стол. Я глядела, слушала бабушкины слова и страдала, не зная, что надо делать, когда вместо тебя любят другого.
— У Федьки ручки как цапельки, возьмет бульбочку, чем только те пальчики ее держат, а старается, толсто не режет, червивое место сколупнет, как выклюнет.
— Читать он умеет? — я надеялась поставить Федьку на место, опустить его с неба на землю в бабушкиных воспоминаниях. Но бабушка не собиралась давать в обиду любимого внука.
— А что в деревне читать? Это у вас тут на каждом доме понаписано и книжками торгуют. А в деревне, что надо, без всякой грамоты читают. Я вот неграмотная, а если пять рублей на деньге написано, я и понимаю что пять, а не три.
— А я все, что написано и на деньгах, и в газетах, и в книжках, умею читать. — Бабушка должна была меня полюбить и выкинуть из сердца Федьку.
— И Федька научится. Как в школу пойдет, так и научится.
Мареин Федька в тот же день поселился в нашей комнате. Бабушка загораживала его, он выглядывал из-за нее, показывал мне кулак и тут же молитвенно складывал на груди сухонькие ручки, преданно глядел в бабушкины глаза, прикидывался хорошим.
Тыквенные семечки в узелке выпирали своими шелковыми боками. Под окном рыжая Лидка разрывалась на части, вызывая меня во двор. Бабушка, занятая картошкой и Федькой, не слыхала ее криков. Я спустилась по длинной лестнице, приставленной с улицы к нашему второму этажу.
Был, наверное, конец августа, потому что в те дни мы жили Осиным школьным богатством — новым ранцем, пеналом, букварем и цветными карандашами в плоской большой коробке. Каждое утро толстый простодушный Ося оглашал двор криками, которые неслись из-за тюлевых занавесок его квартиры. Вслед за первым Осиным криком поднималось множество возмущенных женских голосов и опять недосягаемый, с рыданиями визг Оси. Со стороны могло показаться, что в семье зубного врача Розовского убивают единственного сына. Но мы стояли спокойно и ждали. Ося вел справедливый бой и всегда выходил победителем. Его мать, тетки и бабушка даже не смотрели в окна, когда он подходил к нам, отдуваясь под тяжестью груза.
Первой надевала ранец и бежала по двору рыжая Лидка. Отбежав к сараям, она тянула время, кружилась, медленно прохаживаясь взад и вперед. Мы с Мишей-маленьким глядели на Осю, приказывая взглядами призвать рыжую к порядку, но Ося молчал, и, когда она возвращалась, лохматая, готовая каждому, кто скажет поперек слово, отгрызть голову, Ося тоже ничего не говорил. Я бежала свой круг не задерживаясь, вслед за мной была Осина очередь. Хозяин ранца бежал спокойно, не торопясь, а Миша-маленький, тот просто тянулся. Мы сопровождали его. Ося и я вели Мишу за руки, а Лидка сзади поддерживала ранец. Маленький Миша продвигался деловито, всем своим видом отмежевываясь от нашей помощи. Ему казалось, что он тащит ранец с букварем, пеналом и карандашами сам.
Потом мы примеряли Осины новые ботинки. И тут не было очереди и соперничества. Ботинки были мальчуковые, ничего в них не было особенного, и мы примеряли их просто из чувства благодарности к Осе.
С новыми, незаточенными карандашами до самого обеда шла игра. Карандашей было много, всех цветов и оттенков. Когда мы их делили поровну, каждому доставалось по шесть. У основных цветов были имена. Красный — Лида, синий — Ося, зеленый — Рэма, желтый — Миша, коричневый — Мотя. Мотя торговал на углу улицы хлебным квасом, конфетами и колбасой. Был он голубоглазым и черным, похожим на свое обгоревшее заведение с голубой вывеской: «Бакалея — квас».
Карандаши играли в прятки, справляли именины, ходили друг к другу в гости, ссорились и мирились. Иногда рыжая Лидка расстраивала игру; ни с того ни с сего, прицепившись к пустяку, била по лицу Мишу-маленького или кричала на Осю: «Ах ты, зараза, хочешь, я тебе сейчас руки и ноги обломаю?» Миша-маленький закрывал лицо руками и жался ко мне. Ося собирал свое богатство и уходил домой. Лидка глядела на меня разъяренными глазами, отскакивала на середину двора и кричала что есть мочи. На двух этажах нашего кирпичного дома было слышно, как она позорила меня.
— «Мой папа в Ленинграде, он летом приедет»! — Лидка кривляла голос, передразнивая меня. — Знаешь, где твой отец? Твой отец пасет овец! «Иди домой, я драников на сале напекла!» — это Лидка передразнивала мою мать. — Дров нет, бульбы нет, а они драники едят!
Можно было бы однажды пожертвовать своей жизнью, вцепиться в Лидку и задушить ее, заткнуть ей навсегда глотку. Но останавливало то, что в Лидкиных криках все было правдой. Отец мой умер, и никакого другого отца в Ленинграде не было. И мать звала из окна есть драники на сале, а дома говорила: «Мой ноги и ложись спать. Кто на ночь наедается, тот всю жизнь животом мается. Утром я тебе драников напеку». Утром про драники вспоминать было некогда, мать спешила на работу, я — в детский сад.
— За столом поднимай руку и не бойся никого, — учила она меня, когда мы выходили из дома, — говори: я не наелась, дайте добавку.
Лидка получала свое в субботу вечером, когда ее отец, черномазый сумасшедший сапожник, напивался и начинал буйствовать. Лидка выскакивала во двор, сапожник настигал ее, хватал за голову и мазал сажей лицо.
— Ах ты, зараза, холера рыжая, я тебе руки и ноги в другой раз обломаю!
— Так и надо, так и надо, — мстительно поддакивала я, свесившись из окна.
Лидка поднимала черное лицо, и ненависть ее, как по проводу, устремлялась ко мне. Справиться с отцом у нее не было сил, и она свою злость выливала на меня, Осю и Мишу-маленького. Это был замкнутый, заколдованный круг — мы, Лидка и ее отец. Но тогда мне казалось, что Лидка — зло, а сапожник — возмездие.
В то утро никого из них во дворе не было. Лидка, проверяя, дома ли я, покричала под окном мое имя, я не решалась при бабушке отозваться, взяла узелок с семечками и выскользнула за дверь. В это время я всегда была в детском саду и теперь наслаждалась нежданной свободой.
Лидкины вострые глаза сразу проткнули узелок в моей руке, и рыжие кудри засияли добром и любовью. Лидка не унижалась до попрошайничества — дай! Она уж если что выманивала, то так очаровывала свою жертву, что та, забыв о себе, не делила, а отдавала все до последней крошки. Только Миша-маленький малостью лет был защищен от Лидкиных чар. Он крепко сжимал в кулаке конфету, и Лидке стоило большого труда задурить ему голову и цапнуть добычу.
Потом появился Ося. Ему важен был сам факт, что я во дворе, он и не заметил узелка. За ним вывалился из дверей первого этажа Миша-маленький. Мы отправились к забору, в тени которого полегла от нашей летней беготни пыльная колючая трава, уселись на нее и поделили семечки на четыре части. Сначала большие, потом средние, потом те, что вылущились из скорлупы.
— Бабушка столько всего привезла, — хвасталась я, — десять мешков. Мешок сала, мешок орехов, мешок яблок сушеных… еще грибов, малину сушеную, липник.
— Что такое липник? — спросил Ося.
— Она все время будет дома сидеть? — спросила Лидка.