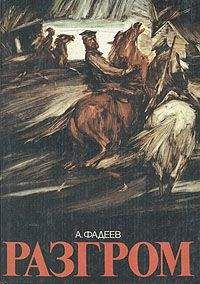Владимир Григорьевич быстро сыпал словами и все мигал, и Лена с грустью чувствовала, что отец старается засыпать словами свою отчужденность от нее.
— А про тебя писали, что ты казенные суммы похитил! — с грустной усмешкой сказала она.
— Ну, бо знать что! — рассердился Владимир Григорьевич. — Это ж белогвардейские газеты писали.
— Да я — несерьезно…
— Пойдем, однако, — хмуро сказал он, увлекая ее за собой.
Лена, смотревшая поверх возов, вдруг удивленно подняла брови: навстречу им, лавируя между возами, шли двое — маленький короткошеий человечек, вместе с которым она ехала на подводе от деревни Хмельницкой, а другой…
Лена вспыхнула.
Другой — был Сурков, тот самый Сурков, которого она видела еще учеником-подростком в передней у Гиммеров, а потом — на примерке у китайца-портного, а потом — с балкона, когда Всеволод Ланговой и чешский офицер везли его на автомобиле, — Сурков сидел между ними со связанными руками. Этот Сурков шел теперь между подводами, в серой казачьей папахе, раскачивая на ходу квадратными плечами и чуть заметно прихрамывая.
— Мы — за вами, — сказал он, подходя к Владимиру Григорьевичу, и мельком взглянул на Лену из-под бугристых бровей. — Пришлось экстренно ревком созвать… Это — Чуркин, из областкома. Привез директивы, которые кажутся ему очень важными, а мне — нет…
Он нехорошо усмехнулся.
— А… Я сейчас, — заволновался Владимир Григорьевич. — Вот дочка приехала, прошу любить и жаловать…
— Мы-то уж знакомы! — Чуркин весело улыбнулся Лене. — Как вы себя?
— Ничего… Спасибо, — протяжно сказала Лена, чувствуя на себе взгляд Суркова.
Но, конечно, он не мог узнать ее: ведь она была тогда маленькой нарядной девочкой среди других, таких же нарядных девочек, а на балконе, среди множества людей, смотревших на него в бинокли, он и вовсе не мог ее видеть.
— Придется на время разлучить вас. Очень жалею.
Сурков встретился с Леной глазами, и улыбка чуть тронула его полные, плотно сжатые губы.
— Ну что ж, ну что ж… — засуетился Владимир Григорьевич. — Вот только устрою ее и приду… Пойдем, Леночка…
"Сурков?.. Ну, пусть Сурков…" — подумала Лена, идя вслед за отцом.
Лене отвели отцовский кабинет, пахнувший табаком и книгами. Ночью, свернувшись клубочком, по привычке, оставшейся у нее с детства, когда она мечтала уместиться в орешке, — свернувшись клубочком на дряхлом, с выпирающими пружинами отцовском диване, прижав к груди руки с подвернутыми ладошками и неподвижно глядя на освещенный месяцем угол стола, она долго беззвучно плакала: от усталости, от воспоминаний детства, оттого, что жизнь ее выглядела бессмысленной и жалкой, оттого, что она не застала Сережи, и ей казалось, что она совершенно одна на свете.
Со смертью матери порвалась последняя нить, связывавшая Лену с родным домом и с ее детством.
Мать Лены была маленькая, полная, молчаливая женщина, с седеющими волосами, с тихими движениями, со спокойным, усталым и недоверчивым взглядом из-под широких темных бровей, придававших ее лицу вид гордый и недоступный. На самом деле она была беспомощна и робка во всем, что не касалось ее детей. Она обладала многими действительными знаниями, а еще больше того передумала и перечувствовала на своем веку, но жизнь ее с отцом Лены изобиловала в прошлом столькими лишениями, приведшими к смерти старших детей, и так была она одинока в этой жизни, что весь ее практический мир невольно свелся к заботам о детях; она приучилась к бережливости, кропотливости, недоверию к людям. Все ее знания, чувства, мысли существовали только в ней самой и для нее, в лучшем случае она могла передать их детям.
Лена помнила ее сидящей в кресле с накинутым на плечи белым вязаным платком, — мать шила или читала что-нибудь, или думала о своем, устало прислонив к спинке кресла седеющую голову; помнила ее бесшумно переходящей комнату в мягких, отороченных белым мехом туфлях, с каким-нибудь тазиком с молоком для котенка в руках; или склонившейся над ее, Лениной, постелью и жадно целующей ее в лоб и нежные щеки, мягкость которых Лена чувствовала и сама, когда ее целовали.
Мать и дочь любили, закутавшись вместе в вязаный платок, сидеть по вечерам на крыльце, выходящем в сад, и молча смотреть на затухающую рдяную полоску над дальними, медленно темнеющими горами; любили собирать цветы — пышные белые пионы, влажные ирисы, желтые и красные лилии, немного пугавшие их своими крупными размерами и яркими красками; любили, пристроившись где-нибудь на диване, читать друг другу вслух или разговаривать о людях — одинаково о взрослых и детях.
Это был свой интимный мир понимающих друг друга взглядов, нежных касаний, тихих разговоров, мир ощущений и созерцания, бездейственный и незащищенный, но правдивый.
Мир отца — мир действенный, многолюдный и шумный (настолько шумный, что казалось иногда, будто отец старается своим громким голосом запорошить какую-то пустоту в себе) — этот мир был чужд и непонятен им.
Отец бросался от одного дела к другому, ни одного не доводя до конца. Он все делал с пафосом, с воздеванием рук, с восклицаниями и многословием, мешая в кучу французские междометия, латынь, народные обороты.
— О! Cela!.. Пришли семена от Рамма! — вздымая длинный указательный палец, поблескивая сумасшедшенькими глазками, кричал он по весне в период своего увлечения огородничеством.
— Sic transit!.. Черт бы его побрал, этого Козлова! — жаловался он осенью на огородника. — Не арбузы у него получились, а бо знать что!..
— Экий мы, мать моя, клин сегодня выкосили! — восторгался он, прибегая вечером с покоса, возбужденный, со свернутой набок черной бородкой, в грубых, пахнущих болотом сапогах. — Ну и кочки! Ну и водища! Таточку бы туда!..
Он намекал на старшего сына Гиммеров, Виталия, — толстого белотелого юношу, прозванного в своей семье Таточкой (отец не любил и презирал Гиммеров, особенно самого старика, за то, что тот в молодости принял православие; отец называл это "гнусным приспособлением к темным силам").
Нашумев и наследив в комнате, он убегал на кухню, откуда доносились веселые "с устатка" голоса косарей, а потом незаметно проскальзывал в спальню, стараясь не дышать: от него пахло водкой.
Он гордился своей близостью к народу и думал, что ненавидит господ; с начальством был резок и вспыльчив. О, он не боялся пострадать! — он постоянно ссорился с приставами из-за мужиков и, не смущаясь тем, что был административно-высланным, однажды побил пристава палкой.
Когда кончалось его увлечение собственным хозяйством, он начинал создавать какие-нибудь кредитные товарищества или потребилки, воюя с богатыми мужиками и не замечая, что в своей деятельности зависит от них.
А после таких подъемов на него нападала хандра. Он целыми вечерами валялся на кровати, накрыв голову подушкой, посасывая леденцы, — они всегда лежали в жестяной коробочке возле, на стуле. В такие времена он бывал раздражителен и сердился на детей ("Шуметь? Что?!" — кричал он из-под подушки так громко и в нос, что получалось — "штан?!"), ссорился с женой, а потом с виноватым видом подглядывал за ней в замочную скважину.
Он был искренен и в своих взлетах, и в падениях. Но он не только был лишен дара понимания людей (в том числе и себя) помимо того, а иногда даже вопреки тому, что люди говорят и думают о себе, — он даже не подозревал, что такой дар существует у кого-либо. И поэтому для жены, только так и воспринимавшей людей, а через нее и для дочери, он сам был непонятным и чужим человеком.
Мать умерла внезапно, от разрыва сердца.
Она, как обычно, сидела в кресле, прислонившись виском к обитой плюшем спинке; книга, которую она читала, валялась на полу. Дети несколько раз проходили мимо, прикладывая к губам палец, думая, что мать спит.
В шкатулке ее нашли письмо. Мать распоряжалась в нем некоторыми вещами и бумагами и завещала Лену на воспитание к Гиммерам, о чем она давно уже договорилась с сестрой Софьей Михайловной. Любовь к сестре, сохранившаяся у нее с дней юности, помешала ей до конца понять эту женщину: мать была искренне убеждена в ее доброте, в ее любви ко всей их семье и думала, что Лене будет лучше с ней, чем с отцом.
В день своего отъезда Лена встала чуть свет; тихо, чтобы не разбудить Сережи и тети Сони, спавшей с ними в детской, оделась и, ступая на цыпочках по холодным половицам, пробралась в отцовский кабинет, выходивший окнами на улицу.
Она была влюблена в скобеевского пастушка, который каждые утро и вечер прогонял стадо мимо их окон и играл на жалейке. Она любила его за то, что он был простоголов, грязно одет, не боялся коров и людей и, казалось, не хотел быть никем другим, кроме как тем, кем он был. Она ни разу не решилась поговорить с ним и даже близко подойти к нему, — она любила его из окна, — но любовь эта занимала большое место в ее жизни.