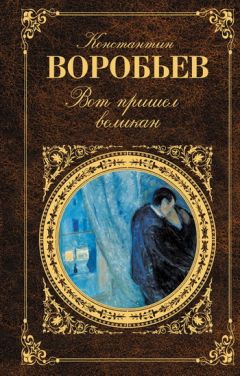Она поблагодарила и рывком взяла у меня ручку. Владыкин в это время поздоровался с нами, и я обернулся и поспешно подал ему руку. Он слабо и коротко пожал ее и поглядел на меня с опасливым недоумением.
— Вот это, товарищ Кержун, надо отредактировать и вернуть, — сказал он, передав мне жиденькую рукопись, напечатанную на плотных листах меловой бумаги. — Устроились?
— Да-да, благодарю вас, — с полупоклоном сказал я. Он кивнул, оправил нарукавники и пошел к дверям, а я опять невольно и машинально поклонился ему в спину. Мне надо было немного посидеть и отдохнуть, — сердце у меня билось тревожно.
— Что он вам дал? — не сразу и тоже устало, как мне показалось, спросила Лозинская.
— Рассказ какого-то Аркадия Хохолкова, — сказал я.
— «Полет на Луну»? Не трогайте в нем ничего, он уже иллюстрирован, набран и сверстан… Прочтите это дня за два, а на третий верните Вениамину Григорьевичу. Скажите ему, что рассказ вам очень понравился, понимаете? И заберите скорей свою дурацкую ручку!..
Тогда как раз пришла Вераванна с кульком леденцов и молча уселась за свой стол…
Рассказ «Полет на Луну» начинался с того, как отец дошкольницы Наташи-украинки космонавт Гнатюк полетел на Луну и в назначенный срок не вернулся на Землю.
К спасательному полету на Луну готовился старый летчик-космонавт профессор Бобров.
Друзья девочки, русский мальчик Петя и негритенок Том, решили отправить с ним щенка Тобика на розыски Наташиного отца, но потом передумали, — будет лучше, если полетит Петя.
Они притащили на ракетодром большой ящик, вежливо поздоровались со стариком сторожем, который сидел в своей проходной будке и пил чай, и сказали ему, что этот их ящик надо срочно отправить на Луну.
Сторож согласился, но полюбопытствовал, что в нем такое.
Ребята сказали «продовольствие», и сторож распорядился заносить груз.
Едва они успели запихнуть в ракету тяжелый ящик, как раздалась команда к старту.
Яркая огненная вспышка озарила небо.
Стоя в толпе, ребята видели, как ракета с ревом взметнулась вверх.
Через секунду она исчезла в звездном небе.
Ребята облегченно вздохнули:
— Порядок! Теперь Наташин папа будет спасен!
Ракета была далеко от Земли, когда сидевший в ней профессор беспокойно оглянулся по сторонам.
— В кабине посторонний шум, — озабоченно сказал он. — И кажется, из этого ящика! Надо проверить.
Профессор обомлел: в ящике сидел Петя.
— Позвольте! Как вы сюда попали? Мальчик смущенно оправдывался.
— Извините, профессор, что вот так… Я обещал ребятам разыскать Наташиного папу… Ой, ой! Держите меня, — закричал Петя, кувыркаясь в воздухе и перелетая из одного угла кабины в другой.
— Не волнуйтесь, — профессор засмеялся. — Все идет как надо. Скоро будем на Луне.
— Но я же не могу ходить по полу! Ой, ой!
— Это невесомость, мой дорогой космонавт. Вам надо бы знать.
Ракета плавно опустилась на дно лунного кратера. И в тот же миг во все стороны полетели радиосигналы:
— Р-1! Р-1!.. Я — Р-2… Прибыл на ваши розыски! Отвечайте! Перехожу на прием!
Ракета Р-1 молчала. И космонавты вышли на поиски.
Профессор едва поспевал за Петей.
— Осторожно, молодой человек! Вы слишком увлеклись спортом. Мы еще не нашли пропавшей ракеты.
— Тут хорошо прыгается, — восхищался Петя, одним махом взлетая на высокую скалу.
— Еще бы! Здесь, на Луне, все весит в шесть раз меньше! — заметил профессор.
Вдруг дальние скалы покрылись огненными вспышками.
— Метеориты! Скорей под скалу! — закричал профессор, увлекая Петю за собой.
Каменный дождь обрушился на лунную поверхность. Неожиданно профессор споткнулся и упал.
— Профессор! Что с вами? — испугался Петя,
— Нога. Кажется, я повредил ногу, — простонал ученый.
— Я понесу вас! — предложил Петя. — Держитесь крепче! Вот так! Ведь на Луне все весит в шесть раз меньше!
— Спасибо, мальчик! Только мы не успеем. Уже темнеет.
— Я вижу огонек нашей ракеты! — бодро воскликнул мальчик и быстро побежал по скалам с профессором на закорках.
Но Петя ошибся. Это была вовсе не их ракета.
Петя постучал по стальной обшивке ракеты, и из люка выглянул незнакомый человек.
Петя сначала удивился, но потом узнал отца Наташи.
— Как хорошо, что я вас нашел! — обрадовался мальчик. — Помогите, пожалуйста. Профессор ранен.
— Нет-нет! — замахал руками профессор. — Мне уже лучше!
— Товарищ Бобров! — по всем правилам доложил космонавт. — Наша ракета ликвидировала повреждения и готова к полету.
— Отлично. Все возвращаемся на Землю.
Сколько людей собралось на Красной площади! Героев засыпали цветами. Наташа, сияя от счастья, кинулась к отцу.
— Папа! Папа! Я знала, что Петя тебя найдет. Обещал — и нашел!
На этом рассказ кончался. Я прочел его четырежды, — а вдруг чего-нибудь не понял, и, наверно, от той пристальности, с которой вглядывался в строчки, у меня тупо заболел затылок. Мне было впору закурить и поделиться с Лозинской впечатлением о рассказе, и я украдкой взглянул на нее, отгородившись от Верыванны локтем. Лозинская сидела в косой неудобной позе, почти полуотвернувшись ко мне спиной, и сосредоточенно отчеркивала что-то в рукописи толстым цветным карандашом. Я подождал и посмотрел на нее снова. Потом еще и еще. Тогда она выронила карандаш, прикрыла лицо ладонями и пожаловалась Вереванне на головную боль.
— Просто нет спасения, — сказала она. — Я, наверно, пойду домой.
Она отняла ладони от глаз, и я увидел в них откровенный, насильно задушенный смех. Я для нее пожал плечом, а для Верыванны щелкнул по рассказу пальцем, — так ведь можно, например, сгонять и муху, поскольку им теперь везде раздолье. Когда Лозинская ушла, у нас в комнате наступила глухая емкая тишина, какая бывает только в потемках какого-нибудь нежилого чулана. Внезапное ощущение пустоты неизменно связано с неподвластной человеку летучей грустью о какой-то безотчетной утрате, — сердце тогда начинает тосковать и сожалеть о чем-то без вашего спроса и чувствовать себя сиротой. По крайней мере, именно это испытал тогда я. Вераванна с обиженным видом вкусно сосала леденцы, не отрываясь от рукописи и не переворачивая страниц. Мне было непонятно, почему ей не следует знать, что я «устроился» в издательство по совету Ирены Михайловны, и с какой это стати я должен развлекать ее какими-то занятными историями? Пошла она ко всем чертям! Курить же можно, в конце концов, и в коридоре.
Я решил еще раз прочесть рассказ, — а вдруг все-таки недоглядел там чего-нибудь, но пустая стылая тишина комнаты, нечаянно издаваемый Вераванной сладкососущий звук, похожий на чмок линя, когда он пойман и лежит в лодке, сознание того, что я веду себя в высшей степени недостойно, сидя истуканом с женщиной, которой недавно лишь дарил цветы и приглашал в лес на шампанское, все это цепеняще обезволило и приплюснуло меня к столу, мешало сосредоточиться, и со стороны я, конечно же, представлял собой вполне законченное жалкое зрелище. Первой не вынесла подвальной немоты нашей комнаты Вераванна. Она за три приема обернулась ко мне вместе со стулом и в упор, заинтересованно, обидчиво и не совсем внятно, потому что рот был несвободен, попросила, чтобы я сказал, пожалуйста, кто меня протежировал.
— Ирена Михайловна, да?
От нее на меня крепко попахло теплой пудрой и сырой мятой. Я подумал и решил, что не понял ее.
— Ну на работу к нам!
— Нет, — солгал я с непонятным самому себе удовольствием. — Мы ведь с Вениамином Григорьевичем живем в одном доме.
— А-а, — сказала она. — Хотите леденцов?
Я предпочел закурить с ее разрешения, и мы опять замолчали.
Остаток того дня я просидел в комнате один, — Вераванна не вернулась с обеденного перерыва. Сидеть было не то что трудно, но просто мучительно, потому что приходилось то и дело принимать деловито-напряженную позу над рассказом, если в коридоре за дверью раздавались мужские шаги, и тут же возвращаться к нормальному состоянию, когда шаги удалялись. У меня болел затылок, ныла спина, а челюсти сводила затяжная нервная зевота: рассказ я заучил наизусть как полуночную уличную частушку, и было какое-то мстительное желание повидать его автора. В коридоре все ходили и ходили походкой Вениамина Григорьевича, и со мной случилость то, что случается с новичками в океане во время качки: им тогда требуется лимонный сок. В туалетной я привел себя в порядок, сполоснул рот и умылся. До конца работы оставалось еще минут двадцать. Я вернулся в свою комнату и сел за стол Лозинской, — тут было дальше от дверей и ближе к окну. Мне подумалось, что за таким столом можно читать любое, — это же небось в подспорье себе в работе над чужими рукописями она заселила его сработанным кем-то щедрым и искусным, вот-вот готовым крикнуть черным маленьким деревянным грачонком, раскрывшим большой розовый зев; крошечным белым плюшевым щенком, хитро скосившим морду, с пронзительно-карими глазами-монистами; бронзовым пацаном, невинно орошающим спросонья утро нового дня; коричневой обезьянкой, зацепившейся хвостом за ветку зеленой жаркой пальмы… Это все было расставлено по конечному закрайку толстого полированного стекла, а под ним, в левом верхнем углу, чтоб оставаться на виду, темнел дешевый книжный снимок матери Есенина. Она была по-деревенски низко покрыта темным широким платком в белую горошину, и под его поветью светились чистые, печально-прощающие кого-то глаза, полные горькой мудрости и усталости. Они излучали какое-то гипнотизирующее успокоение, какое-то бессловесно-затаенное не то благословение, не то увещевание, и смотреть на них хотелось долго и покаянно. Под этим же стеклом, но только в правом нижнем углу, лежали оба снимка Хемингуэя, подаренные мной, три открытки, кусок какой-то муаровой ленты и адресный список сотрудников издательства, отпечатанный типографским способом. В списке этом фамилия Ирены Михайловны значилась двойной — Лозинская-Волобуй, и я прикрыл стекло чьей-то тяжкой, как кирпич, рукописью и пересел за свой стол. Я сидел и думал о вечерних зеленых сумерках Гаваны, о платанах, заполненных крикливыми ярко-желтыми птицами. Мне очень захотелось попасть туда снова. Гавана — веселый город, красивый, пахуче-знойный и вкусный как тамалес — это кубинское национальное блюдо из кукурузы. Его завертывают в листья банановой пальмы… Кубинские девушки и женщины похожи друг на друга, потому что носят голубые юбки колоколом и белые платки. Они все там полуиспанки-полунегритянки… Наверно, Лозинская могла бы сойти за кубинку, смело могла, и в ливень ей пригодился бы там ее нелепый плащ… Но что за обрубочный довесок к ее фамилии — Волобуй! Мужнина фамилия? Она могла быть и неблагозвучней, срамней, лично мне это — до лампочки!..