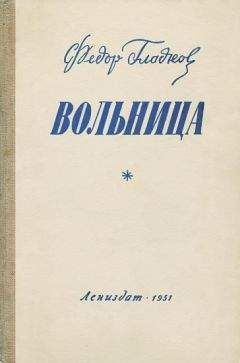Степан неожиданно вознегодовал и напустился на Игната:
— Ни в жизнь ему тебя не перешарашить. Не быть решке орлом. Я его и на порог не пущу.
Игнат довольно усмехнулся: преданность молотобойца была ему по душе, но не удивила, а озадачила его.
— Дубина! Надо кланяться, не ломая башки, чтоб душа к душе, как железо, приваривалась. За верность твою исполать, а за то, что ты дубовыми руками душу за шиворот норовишь схватить, первый в ногах у Тараса валяться будешь.
В казарме, как обычно, была суета: одни резалки толпились у длинного умывальника за печкой, другие переодевались, причёсывались, прихорашивались, посматривая в крошечные зеркальца, иные, уткнувшись в подушки, спали. Олёна с младенцем сидела на нарах у самой стены и кормила его, а он корчился и истошно кричал: должно быть, у него болел животик и цвело во рту. Кричал он с первого дня появления на свет. На работу Олёна вышла уже через день после родов, а ребёнка оставляла одного на нарах. Галя с больными руками не могла его нянчить и уходила из казармы на соляной двор. Ухаживала за ним тётя Мотя. Потом он очутился у Феклушки, и она с материнской нежностью копошилась с ним, как с куклой. Ребёнок замолкал у неё на руках, а она радостно смеялась. Всё чаще и чаще она садилась на своих нарах, прислонялась спиною к стене, клала подушку на колени и осторожно, ласково, но уверенно устраивала удобное гнёздышко для младенца.
В этот неожиданный перерыв в работе, похожий на праздник, женщины принялись за уборку казармы: постельки вынесли на двор, чтобы выбить пыль и песок, нары мыли горячей водой, протирали окна, скребли железными лопатками пол, ошпаривали его кипятком, смывали грязь мётлами, а потом промывали мешковиной. И работа проходила быстро, дружно, легко и весело, с крикливыми шутками и песнями. И как всегда, с увлечением, бойко хлопотала мать и звонко, сердечно напевала пригудки. Вместе с ней, не отрываясь от неё, так же расторопно хлопотала и Марийка. Она так привязалась к матери, что тёрлась около неё и в обеденный перерыв, и вечером после работы — обнимала её и повадилась забираться по ночам на наши нары, чтобы посидеть плечом к плечу с матерью.
Наташа могуче скребла и мыла пол с молчаливым упорством, и казалось, что только она одна выполняла эту грязную работу, а другие женщины мешали ей. Даже Галя не могла усидеть на месте: она вынесла на улицу и свою постельку, и постельки Оксаны и Прасковеи. Злая, жгучая, как крапива, в дни своей болезни, она в эти минуты общей весёлой хлопотни впервые закричала:
— Сорвалась баржа с мели, а собака с цепи! Хватит сидеть сиднем и тютюшкать свою двойню. Вот захочу, и завтра же на плот пойду. Лучше руки отрублю, чем дам себя скрутить какой-то паршивой коросте.
Оксана протирала стёкла и подбодряла её.
— Ой, Галька, радость моя! Люблю тебя такую, когда ты мальвой расцветаешь.
— Оксана, девчина милая! — лихо открикивалась Галя. — Не хочу твоего хлеба и чаю с коржиками: хоть всё моё — твоё, но горький да сырой хлеб стал ещё горчее. Меня кормит и родненькая Прасковея. Когда я только рассчитаюсь с вами, подруги мои любые?
— Я драться буду, Галька, — в негодовании кричала Оксана. — Мы поклялись быть заодно. Не ты ли меня годовала, когда я без памяти лежала на твоих руках?
Прасковея мыла стол, скамьи и нары и молчала всё время. Но когда забунтовала Галя, она с мокрой тряпкой в руке угрожающе подошла к ней. Галя в эту минуту несла к двери пухлую охапку постельного добра и одежды.
— Вот что, Галенька… чтоб я больше таких разговоров не слышала! Ни одной болячки чтоб не было на душе! Значит, не руки у тебя болят, а сердце. Общий кусок хлеба вкусней да сытней, а чай — слаще мёда.
К моему удивлению, эта отчаянная Галя вдруг всхлипнула и укрощённо пролепетала:
— Знаю, Прасковея… винюсь… Не буду… Ведь я же без тебя и Оксаны жить не могу…
— Ну, вот и хорошо! — улыбнулась Прасковея и поцеловала её. — Не об этом сейчас надо думать. Надо друг за друга держаться. Вот ворвётся бандура Василиса и прикажет собираться вечером на гульбище к хозяину. Ни слова ей, как будто её и нет. Не забывайте, как мы на плоту работу бросили и на управителей страху нагнали. Выдержим — верх наш будет. Слышите, товарки? Уговор — святое дело.
И она пошла обратно с улыбкой уверенного в своей силе человека.
Когда казарма была вычищена и прибрана, в ней стало просторно, светло и празднично. Как всегда, Улита топила баню. Она пришла оттуда, как из церкви, благостная, просветлённая, помолилась на печку и запела:
— В баньку пожалуйте, бабыньки! Хорошая банька — с паром, со щёлоком… Омойте и тело, и душеньку от всякого тлена.
Кто-то крикнул ей озорно:
— Вот ты, Улита, в баньке-то вымылась — собирайся к хозяину на пир. Только нарядись почепуристей, чтобы плясать пофорсистей.
В разных местах захохотали и начали подшучивать над нею. Но Улита с кротким терпением отмалчивалась.
После бани, распаренные, приятно изнурённые, все посмирнели и легли на нары.
Пришёл Гриша без шапки, всклокоченный, красный, с широко открытыми глазами, которые переливались горячей влагой. Он был очень взволнован, словно пережил какое-то потрясение. Быстрыми шагами он прошёл в свой угол и сразу же сел на край нар, не замечая перемены в казарме. Озираясь и вороша свои взлохмаченные кудри, он вздохнул и уставился в потолок. Вдруг он вздрогнул, вскочил с места, прошёл в куток и стал умываться. Женщины с любопытством следили за ним и тихо пересмеивались. Прасковея с затаённой усмешкой проводила его глазами: она расчёсывала гребешком свои густые золотые волосы и делала вид, что равнодушна к приходу Гриши.
Тётя Мотя недовольно ворчала:
— В баню бы шёл, Григорий… Пропарился бы хорошенько — душу-то и укротил бы. Действо твоё до добра не доведёт. И летось, и сейчас вот — как безумный… Чего это только с человеком делается?
Гриша вдруг опамятовался и изумлённо крикнул:
— Неужто банька, Матрёша? А мне и невдомёк… Бегу, со всех ног бегу!
С мокрыми руками и лицом он бросился в свой угол на нижних нарах и заликовал:
— Батюшки мои! Красота-то какая! Кто же это мне так постель-то прибрал да чистоту навёл? Вот спасибо, милые товарки!
А ты догадайся! — подзадорила его Оксана, но Галя зло пошутила:
— Ребятки без догадки на любовь не падки.
Прасковея низким голосом урезонила их:
— Не замайте его, девчата. Видите, человек не в себе? Он сейчас любит только свою персиянку.
Но Гриша опять забылся: он, как слепой, ощупью открыл сундучок, выхватил оттуда своё бельишко и, глухой к шуткам женщин, вышел из казармы, забыв закрыть и сундучок, и дверь. Мать, грустная и задумчивая, долго смотрела ему вслед. После бани многие спали, а некоторые занялись починкой белья. В казарме стало свежо и прохладно, но дверь никто не закрывал: вероятно, все отдыхали и наслаждались тишиной. Закрыла дверь тётя Мотя.
— Дорвались до нар-то, и подняться лень, — ворчала она. — Один, безумный, куролесит, другие, как пьяные, свалились и простуды не боятся после банного пара-то…
Пришла из бани Василиса, красная, разваренная, с белой чалмой на голове и с томным страданьем в лице, расслабленно провалилась в дверь своей комнаты. Она глухо постонала там и затихла: вероятно, блаженно растянулась на кровати. Оксана перевязывала руки у Гали и посмеивалась:
— Добралась свинья до лужи — и байдуже!..
Галя уже не пеленала свои руки, как прежде: она обвязывала только ладони и половину пальцев. Она задорно любовалась ими и угрожающе обещала:
— Теперь я и на драку готова. Мои пальчата-хлопчата не унывают: хоть сейчас можно по щекам бандуры прогуляться…
Василиса звала Улиту разомлевшим голосом, но Улиты в казарме не было: она, как всегда, дежурила в бане, мыла и парила резалок. Для неё церковь и баня были одинаково сладостны: и из церкви, и из бани она приходила умилённая и счастливая.
— Улита! — с капризной настойчивостью стонала подрядчица. — Где она, банная мочалка? Я же приказала ей итти за мной!.. Матрёна! Глухая ты, что ли?
И когда тётя Мотя потащила свои тяжёлые ноги к комната подрядчицы, Галя сорвалась с нар и погрозила ей белой повязкой. Потом подхватила её под руку и, как больную, бережно повела обратно. Оксана смеялась, а Прасковея с серьёзным лицом одобрительно посмотрела им вслед.
Подрядчица в чалме, закутанная в голубую длинную шаль, выплыла из своей двери и опухшими глазами оглядела казарму.
— Да вы подохли, что ли? Зову, зову — никто не откликается. Матрёша! Иди сюда! Ты мне нужна… Причесать меня надо, да одеться поможешь.
Но Галя стояла перед тётей Мотей и заслоняла её от подрядчицы.
— А вы, девочки и все холостые, нарядитесь получше: вечером вместе со мной пойдём к хозяину. Он очень даже любит молодёжь — сам повеселиться гораздый, хоть и пожилой годами. Надо ему сделать удовольствие — поплясать, песни попеть, да чтобы как можно больше разудалости… Всех одарит, всех обласкает. А друг его, купец Бляхин, прямо сатанеет от веселья. На жену-то свою, беглянку, целую облаву теперь устроит. Уж вы, девчата, не конфузьте меня. А то нынче при встрече-то я готова была сквозь землю провалиться. Хозяин приказал заплатить вам за этот день полностью, да сверх этого — пол-урока за вечер. Вот как раскошелился!.. И не в подарок это считается, а как работа. Строгий приказ: вечером по звонку итти в хозяйские хоромы, как на урок, под моим началом да по моему выбору: выкликать буду. Никуда не отлучайтесь!