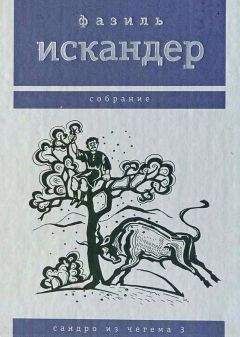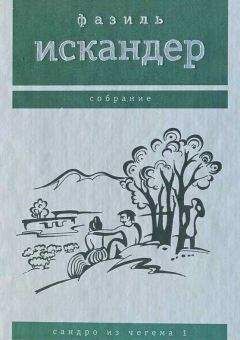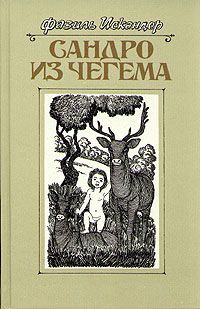И я вижу, мой Алексей, храбрейший летун, четырежды раненный, дважды посадивший горящий самолет, дрожит перед этим дерьмом.
Вы ведь знаете, меня из себя трудно вывести, но тут я психанул.
— Товарищ майор, — говорю стальным голосом, — прошу вас немедленно покинуть помещение!
Вижу, растерялся, но форс держит. Оглядывается на Алексея, понимает, что он старший лейтенант, а по моему виду ни хрена не поймешь.
— Ваше звание? — спрашивает.
Я поворачиваюсь, подхожу к кровати, вытаскиваю из-под подушки пистолет и снова к дверям.
— Вот мое звание! — говорю.
— Вы бросьте эти замашки, — отвечает он, — сейчас не сорок первый год!
— Конечно, — говорю, — благодаря вашей штабной заднице сейчас не сорок первый год!
— Я вынужден буду доложить обо всем в вашу часть, — говорит и спускается вниз по лестнице. Солдат за ним.
— Докладывайте, — говорю, — а что вы еще умеете!
Они вышли. Мы молчим. Мотоцикл затарахтел и затих.
— Ты, — говорит Алексей, — с ним очень грубо обошелся. Теперь нас затаскают.
— Не бойся, — говорю, — нас с тобой достаточно хорошо знает наше начальство. Подумаешь, у немочек ночевали…
— Но ты же угрожал ему пистолетом, — говорит он, — ты понимаешь, куда он это может повернуть?
— А мы скажем, что он врет, — отвечаю я, — скажем, что он сам хотел остаться с бабами и от этого весь сыр-бор. Чего это он в три часа ночи шныряет на мотоцикле?
— Конечно, — говорит Алексей, — теперь надо так держаться. Но ты напрасно нахальничал с ним.
Я-то понимаю, что ему теперь неловко перед своей Греточкой. Слов, конечно, они не понимали, но все ясно было и без слов: я выгнал майора, который заставил его одеться.
И я, чтобы смягчить обстановку, разливаю спирт, и мы садимся за стол. Сестрицы расщебетались, а Греточка поглядывает на меня блестящими глазами, и темная прядка то и дело падает на лоб. Хороша была чертовка!
Одним словом, выпили немного и разошлись по комнатам.
— Майор гестапо? — спрашивает у меня Катя.
— Найн, найн, — говорю.
Этого еще не хватало. Но вижу — не верит.
Через день у нас боевой вылет. Я благополучно приземлился, поужинал в столовке со своим экипажем, а потом подхожу к Алексею, он почему-то сидит один, и говорю:
— Отдохнем и со свежими силами завтра к нашим девочкам.
Вижу, замялся.
— Знаешь, Кемал, — говорит, — надо кончать с этим.
— Почему кончать? — спрашиваю.
— Затаскают. Потом костей не соберешь.
— Чего ты боишься, — говорю, — если он накапал на нас, уже ничего не изменишь.
— Нет, — говорит, — все. Я — пас.
— Ну как хочешь, — говорю, — а я пойду. А что сказать, если Грета спросит о тебе?
— Что хочешь, то и говори, — отвечает и одним махом, как водку, выпивает свой компот и уходит к себе.
Он всегда с излишней серьезностью относился к начальству. Бывало, выструнится и с таким видом выслушивает наставления, как будто от них зависит, гробанется он или нет. Я часто вышучивал его за это.
— Ты дикарь, — смеялся он в ответ, — а мы, русские, поджилками чуем, что такое начальство.
Ну что ж, вечером являюсь к своим немочкам. По дороге думаю: что сказать им? Ладно, решаю, скажу — заболел. Может, одумается.
Прихожу. Моя ко мне. А Греточка так и застыла, и только темная прядка, падавшая на глаза, как будто еще сильней потемнела.
— Алеша?! — выдохнула она наконец.
— Кранк, — говорю, — Алеша кранк.
Больной, значит.
— Кранк одер тот? — строго спрашивает она и пытливо смотрит мне в глаза. Думает, убит, а я боюсь ей сказать.
— Найн, найн, — говорю, — грипп.
— О, — просияла она, — дас ист нихтс.
Ну мы опять посидели, выпили, закусили, потанцевали. Моя Катя несколько раз подмигивала мне, чтобы я танцевал с ее сестрой. Я танцую и вижу, она то гаснет, то вспыхивает улыбкой. Стыдно ей, что она так скучает. Ясное дело, девушка втрескалась в него по уши.
Моя Катя, как только мы остались одни, посмотрела на меня своими глубокими синими глазами и спрашивает:
— Майор?
Ну как ты ей соврешь, когда в ее умных глазках вся правда. Я пожал плечами.
— Бедная Грета, — говорит она. Забыл сейчас, как по-немецки.
— Ер ист кранк… — Он больной, значит.
— Да говори ты прямо по-русски! — перебил его дядя Сандро. — Что ты обкаркал нас своими невозмутимыми «кар», «кар», «кар»!
— Так я лучше вспоминаю, — сказал Кемал, поглядывая на дядю Сандро своими невозмутимыми воловьими глазами.
— Ну ладно, говори, — сказал дядя Сандро, как бы спохватившись, что, если Кемал сейчас замолкнет, слишком много горючего уйдет, чтобы его снова раскочегарить.
— Да, м-м-м… — замыкал было Кемал, но довольно быстро нашел колею рассказа и двинулся дальше.
— Одним словом, я еще надеюсь, что он одумается. На следующий день встречаю его и не узнаю. За ночь почернел.
— Что с тобой? — говорю.
— Ничего, — говорит, — просто не спал. Как Грета?
— Ждет тебя, — говорю, — но сестра догадывается.
— Лучше сразу порвать, — говорит, — все равно я жениться не могу, а чего резину тянуть?
— Глупо, — говорю, — никто и не ждет, что ты женишься. Но пока мы здесь, пока мы живы, почему бы не встречаться?
— Ты меня не поймешь, — говорит, — для тебя это обычное фронтовое блядство, а я первый раз полюбил.
Тут я разозлился.
— Мандраж, — говорю, — надо называть своим именем, и нечего выпендриваться.
И так мы немного охладели друг к другу. Я еще пару раз побывал у наших подружек и продолжаю врать Греточке, но чувствую, не верит и вся истаяла. Жалко ее, и нам с Катей это мешает.
Мне и его жалко. Он с тех пор замкнулся, так и ходит весь черный. А между тем нас никуда не тянут. И я думаю: майор оказался лучше, чем мы ожидали. Через пару дней подхожу к Алексею.
— Слушай, — говорю, — ты видишь, майор оказался лучше, чем мы думали. Раз до сих пор не капнул, значит, пронесло. Я же вижу, ты не в своей тарелке. Ты же гробанешься с таким настроением!
— Ну и что, — говорит, — неужели ребята, которых мы потеряли, были хуже, чем мы с тобой?
Ну, думаю, вон куда поплыл. Но виду не показываю. Мы, фронтовики, такие разговорчики не любили. Если летчик начинает грустить и клевать носом — того и жди: заштопорит.
— Конечно, нет, — говорю, — но война кончается. Глупо погибнуть по своей вине.
Вдруг он сморщился, как от невыносимой боли, и говорит:
— Кстати, можешь больше не врать про мою болезнь. По-моему, я ее видел сегодня в поселке, и она меня видела.
— Хватить ерундить, — говорю, — пошли сегодня вечером, она же усохла вся, как стебелек.
— Нет, — говорит, — я не пойду.
Теперь уже самолюбие и всякое такое мешает. Он очень гордый парень был и в воздухе никому спуска не давал, но и мандраж этот перед начальством у него был. Это типично русская болезнь, хотя, конечно, не только русские ею болеют.
И вот я в тот вечер опять прихожу к девушкам со всякой едой и выпивкой. Поднимаюсь наверх и не обращаю внимания на то, что нет большого зеркала, стоявшего в передней. Захожу в комнату, где мы обычно веселились, и вижу, обе сестрички бросаются ко мне. Но моя Катя как бешеная, а у Греточки личико так и полыхает радостью. У меня мелькнуло в голове, что Алексей днем без меня все-таки зашел.
— Майор ист диб! — кричит Катя, то есть вор, и показывает на комнату. — Майор цап-царап! Аллес цап-царап!
— Я, я, — восторженно добавляет Греточка, показывая на голую комнату — ни венских стульев, ни дивана, ни шкафа, ни гобелена на стене, — один только стол, — майор ист диб! Майор ист нихт гестапо! Заге Алеша! Заге Алеша!
Значит, скажи Алеше.
— Это возмутительно! — кричит старик. — Цап-царап домхен антифашистик!
Сейчас это звучит смешно, а тогда я впервые почувствовал, что кровь в моих жилах от стыда загустела и остановилась. Конечно, грабили многие, и мы об этом прекрасно знали. Но одно дело, когда ты знаешь этих людей, да еще связан с женщиной, которая рассчитывала на твою защиту. Никогда в жизни я не испытывал такого стыда.
А главное, Греточка — вся рассиялась, глаза лучатся, невозможно смотреть. Она решила, что раз майор обчистил их дом, значит, он не может быть энкаведешником, а раз так, Алеше нечего бояться. Как объяснить ей, что все сложней, хотя майор и в самом деле был штабистом.
Так вот, значит, почему он шнырял в три часа ночи на мотоцикле: смотрел, где что лежит. Только поэтому и не накапал на нас.
Я сказал Грете, что обо всем расскажу Алеше, и старику соврал, что буду жаловаться на майора. Надо же было их как-нибудь успокоить. Девушки притащили откуда-то колченогие стулья, мы поужинали, и я со стариком крепко выпил.
На следующий день я все рассказал Алексею и вижу: он немного ожил.
— Хорошо, — говорит, — завтра пойдем попрощаемся. Кажется, на днях нас перебазируют.